Лабиринт
в тумане
над бездной
в тумане
над бездной
Мария Скаф — о Брехте Эвенсе
и его «Полуночниках»
и его «Полуночниках»
Брехт Эвенс исключительный. И хотя говорить так сейчас, когда мы, вроде, отказались от пирамиды с главным художником на вершине в пользу ризомы, очень странно, но мне, все-таки, хочется как-то это зафиксировать. Это абсолютно иррациональное и очень личное впечатление, которое возникает у меня при взгляде на его работы: будто именно в них комикс наконец-то обретает свою самость, будто до этого он все еще находился в тени анимации, литературы, живописи, и только Эвенс легитимизировал его как полностью самодостаточный вид искусства. И хотя такое заявление без должного подкрепления выглядит чрезвычайно уязвимо, мне все же хотелось бы начать именно с него: поскольку попытки объяснить себе собственные чувства стали источником тех наблюдений и выводов, которыми я хочу поделиться.
«Полуночники» — новый роман Эвенса, вышедший в издательстве «Бумкнига» спустя пять лет после «Пантеры» (первой опубликованной в России работы Эвенса, вызвавшей немало споров). Это история трёх жителей города — Вик, Родольфа и Йоны, которые независимо друг от друга отправляются вечером в бар. Звучит как начало какого-то анекдота, но здесь уйти гулять в ночь — это совершить почти Улиссовское путешествие: можно успеть потерять себя, можно начать новую жизнь, можно и то, и другое разом. Все трое фланируют по городу в этом знакомом ритме, когда вы выходите из приличной винотеки, чтобы в следующую секунду оказаться в модном ночном клубе, а потом — на чьей-то закрытой вечеринке, но вы уже, пожалуй, не знаете, на чьей, но это и не важно, потому что бокал спустя вы уже сидите на лавочке в парке, встречая рассвет, или купаетесь в ледяном озере (вообще-то март на дворе, куда полезли!) или устало едете домой в такси, нацеленные лишь на то, чтобы заснуть, хотя бы успев закрыть за собой дверь квартиры. Вокруг шум, мишура, вы точно не управляете событиями в этот момент, но где-то внутри все еще остается часть, наблюдающая за происходящим с немым изумлением и задающаяся вопросом: а что мы вообще творим? Из этой части, кажется, Эвенс пишет свою новую книгу. Главные герои романа почти не взаимодействуют друг с другом, но мы видим, какими разными способами связаны их жизни: от одного и того же такси, которое катает их по городу, до одного психиатра и — шире — одних и тех же страхов.
История пронзительна и в своем сюжете, и в интонации; она похожа на то, что мы рассказываем своим терапевтам каждую пятницу, она задевает все триггеры, с которыми мы только учимся справляться, и то, какими способами Эвенсу удается перенести всю нашу жизнь в пространство графического нарратива, требует подробного изучения: кажется, что в тех приемах, что он использует, не меньше отражения реальности, чем в романе в целом. Вторая половина XX века для комикса — время исследования границ и попытки нарушения этих границ, но если шире, то это время обретения той самости, которая позволила легитимизировать комикс как отдельный вид искусства, а затем встроить его в парадигму графического нарратива. Скажем, Арт Шпигельман, а вслед за ним и Ричард Макгуайр исследовали границы медиума, выделяя те приемы, которые доступны только и исключительно комиксу:
История пронзительна и в своем сюжете, и в интонации; она похожа на то, что мы рассказываем своим терапевтам каждую пятницу, она задевает все триггеры, с которыми мы только учимся справляться, и то, какими способами Эвенсу удается перенести всю нашу жизнь в пространство графического нарратива, требует подробного изучения: кажется, что в тех приемах, что он использует, не меньше отражения реальности, чем в романе в целом. Вторая половина XX века для комикса — время исследования границ и попытки нарушения этих границ, но если шире, то это время обретения той самости, которая позволила легитимизировать комикс как отдельный вид искусства, а затем встроить его в парадигму графического нарратива. Скажем, Арт Шпигельман, а вслед за ним и Ричард Макгуайр исследовали границы медиума, выделяя те приемы, которые доступны только и исключительно комиксу:
“
Комиксы основаны на времени. Я работал с кино, оно тоже основано на времени, и с музыкой — она тоже. Но у комиксов есть сильные стороны, которых нет у этих двух. Музыка и кино движутся в реальном времени, а в комиксах это движение можно сломать. Ты, например, совершенно не обязан читать комиксы линейно. Возвращаясь к тому, что говорил Шпигельман: комикс — это диаграмма. Ты можешь двигаться по ней в любом направлении.
Такое понимание комикса нашло свое идеальное воплощение в романе Макгуайра «Здесь»: в этой книге на каждом развороте изображена одна и та же комната, а кадры-врезки, будто всплывающие окна Windows, изображают те события, которые происходили на этом месте в разное время. Причем время это нелинейно: на одном развороте мы можем наблюдать за индейцами ленапе, а на другом смотреть, как родители Макгуайра, также вписанные в комикс, отмечают Рождество. «Здесь» вовсе не обязательно читать с первой до последней страницы, мы можем читать ее с конца, с середины, открывать на случайных разворотах и так, как придет в голову только нам. Таким образом книга дарит читателю бесконечную историю, которая складывается лишь благодаря его читательскому усилию. Макгуайр, а вслед за ним и многие другие комиксисты, отказываются от управления читательским взглядом, делегируя читателю функцию рассказчика, преодолевая границу между авторским и читательским нарративом.
Другой вектор берет Рей Фоукс в своем комиксе «The People inside». Комикс построен на жесткой сетке из шести кадров на каждой полосе. В каждом кадре рассказывается история взаимоотношений одной пары. Кадровая сетка нарушается, если пара расстается (кадр разделяется на два) или кто-то из двоих погибает (кадр разделяется на два, и один из кадров становится черным). Таким образом мы одновременно следим за жизнью 24-х человек с момента их встречи до самой смерти, где все герои говорят одновременно. И если в случае Макгуайра мы имеем дело с комиксом, который делегирует читателю право выбирать, в каком порядке выстраивать историю, то Фоукс в свою очередь использует умение комикса рассказывать несколько историй параллельно таким образом, что ни одна не будет перебивать другую (достаточно представить, как бы шумно звучала анимированная версия «The People inside»). Однако то расширение, которое выбирает Эвенс, кажется, имеет совсем другую природу. Все перечисленные авторы так или иначе фокусируют внимание читателя лишь на определенных моментах истории, используя те принципы монтажа, которые описал еще Скотт Макклауд в «Понимании комикса».
Другой вектор берет Рей Фоукс в своем комиксе «The People inside». Комикс построен на жесткой сетке из шести кадров на каждой полосе. В каждом кадре рассказывается история взаимоотношений одной пары. Кадровая сетка нарушается, если пара расстается (кадр разделяется на два) или кто-то из двоих погибает (кадр разделяется на два, и один из кадров становится черным). Таким образом мы одновременно следим за жизнью 24-х человек с момента их встречи до самой смерти, где все герои говорят одновременно. И если в случае Макгуайра мы имеем дело с комиксом, который делегирует читателю право выбирать, в каком порядке выстраивать историю, то Фоукс в свою очередь использует умение комикса рассказывать несколько историй параллельно таким образом, что ни одна не будет перебивать другую (достаточно представить, как бы шумно звучала анимированная версия «The People inside»). Однако то расширение, которое выбирает Эвенс, кажется, имеет совсем другую природу. Все перечисленные авторы так или иначе фокусируют внимание читателя лишь на определенных моментах истории, используя те принципы монтажа, которые описал еще Скотт Макклауд в «Понимании комикса».
“
Кадры комикса дробят пространство и время, создавая отрывистый ритм стаккато несвязанных моментов. Но достраивание позволяет нам связать их в уме и сконструировать единую, протяженную реальность. Если визуальные образы составляют лексикон комиксов, то достраивание — его грамматику. И раз уж наше определение комиксов строится на выстраивании частей, то комиксы — и есть достраивание! Достраивание в электронных медиа — непрерывное, по большей части непроизвольное и буквально незаметное. Но достраивание в комиксах еще какое прерывистое и уж точно сознательное. Когда автор изображает на бумаге любое событие, у него есть безмолвный подстрекатель и сообщник. Равный соучастник преступления. Читатель. [...] Достраивание в комиксах порождает уровень интимности, доступный только печатному слову — бессловесный договор между автором и аудиторией.
Но для Эвенса такой подход к монтажу неприемлем: он просто не позволит рассказать все то, что задумал автор. Рисуя традиционный комикс, тот самый, что использует домысливание по Макклауду как основной прием, мы вынуждены пропускать определенные фазы, чтобы создать графический нарратив. Действие в комиксе гораздо более дискретно, чем в кино или анимации. Предположим, мы изобразим в первом кадре человека в кресле, во втором — пустое кресло и отставленную на журнальном столике недопитую чашку чая, в третьем — человека, стремительно выходящего из подъезда на улицу. Мы пропускаем те моменты, когда герой поднимается из кресла, собирает вещи, обувается и спускается на первый этаж — нам просто не хватит места, да это нам и не нужно. Трех кадров достаточно, чтобы рассказать о том, как человек вышел из дома (и, если проводить эксперименты, станет очевидно, что кадров может быть даже меньше). Интересно, что если в этой сцене появится текст (скажем, наш герой все это время говорит по телефону), он будет так же дискретен, как и визуальный ряд: за переходами из кадра в кадр будет скрываться неслышная нам часть диалога. Как, например, в комиксах Антонии Кюн:
Едва ли Пауль с отцом играют и танцуют молча, и, если бы мы переложили эту сцену на язык анимации, нам бы пришлось придумывать им диалоги (или увеличить громкость закадровой музыки, чтобы подчеркнуть, что в данный момент важнее действие, а что при этом говорят герои — не принципиально). В любом случае, в комиксе между кадрами прячется тишина: прячется в том смысле, что мы ее едва замечаем, но и в том смысле, что она там все-таки есть. Обращаться с этой тишиной можно по-разному. Например, Джипи переносит все монтажные склейки в промежутки между сценами. Он будто снимает долгим планом, как солдаты переговариваются в окопе, но в тот момент, когда нужна монтажная склейка (например, для того, чтобы оказаться в новой локации), герои просто замолкают:
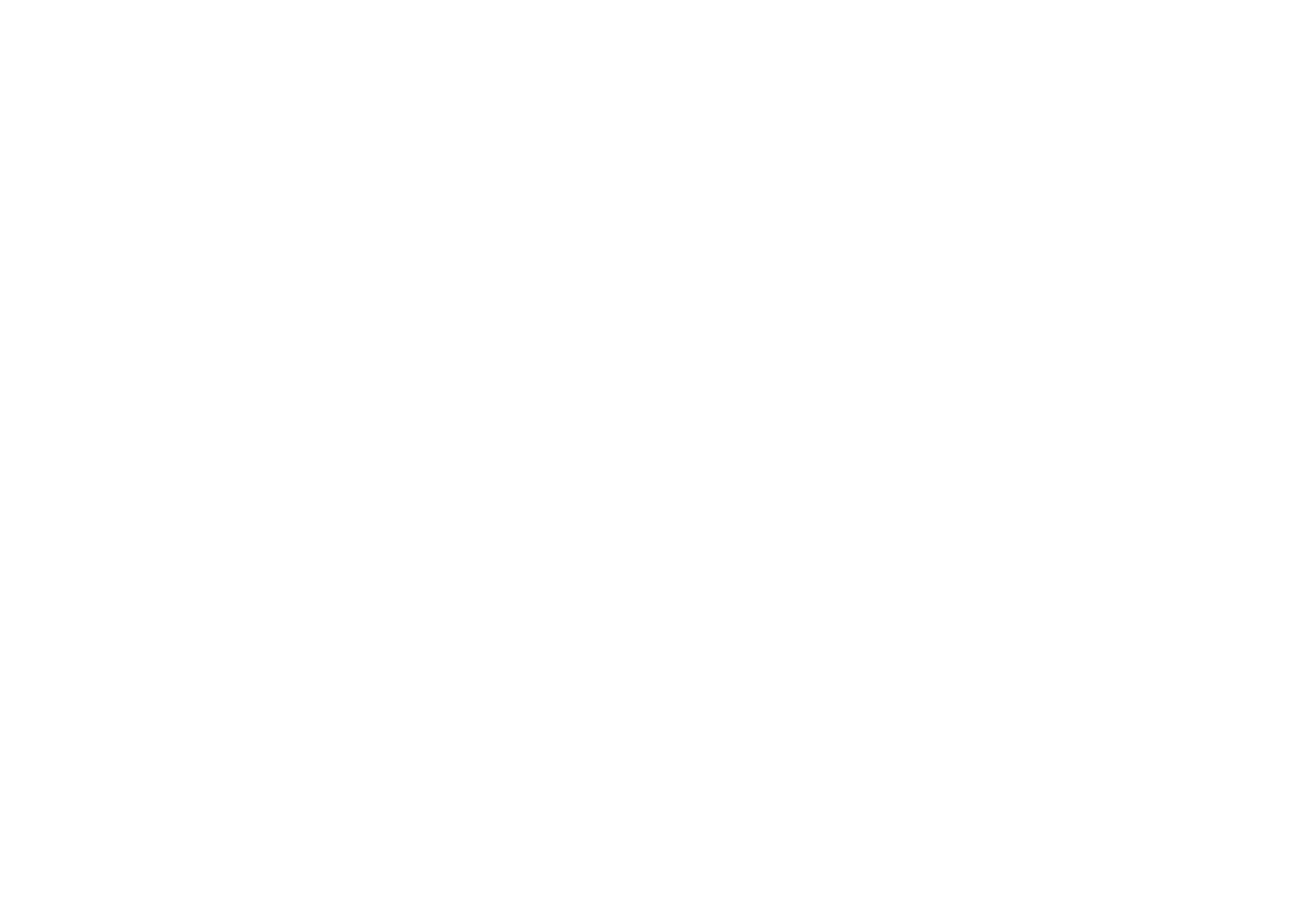
«Однастория», Джипи, СПБ.: Бумкнига, 2018
Повествование в классическом комиксе сродни театральной пьесе: ремарки становятся текстом в плашках, а диалоги редуцируются. Герои, будто Розенкранц и Гильденстерн, мертвы, пока на них никто не смотрит. И на этом фоне то, что делает Эвенс, похоже на оживление марионетки: вот перед нами деревянная болванка, а в следующую минуту — уже настоящий мальчик. Первое, что бросается в глаза при взгляде на работы Эвенса — это почти полное пренебрежение фреймовой сеткой. Привычные комикс-кадры встречаются в работах Эвенса крайне редко и служат не для создания последовательности (sequential по Уиллу Айснеру), а скорее для создания акцента и/или атмосферы. Например, если нужно подчеркнуть границу между реальным миром и областью искаженного восприятия, как в «Пантере»:
В остальных случаях герои Эвенса действуют в пространстве ничем не ограниченного белого листа. Это позволяет использовать гораздо больше фаз, не перегружая разворот (полоса в двенадцать кадров неизбежно выглядит очень плотной, но отсутствие кадровой сетки позволяет этого избежать, давая необходимый воздух). Но что особенно важно, исключение рамки в случае Эвенса также означает и исчезновение межкадрового пространства, той самой слепой зоны, в которой прячется тишина. Домысливание в его комиксах сводится к минимуму. Мы будто бы прокручиваем кинопленку, где действие непрерывно. Одна фаза плавно перетекает в другую, и это создает абсолютное ощущение достоверности и интимности: мы чувствуем, что ничего не упустили в диалоге. Ни один вздох, ни одна заминка, ни одна странная, неловкая интонация не останется незамеченной.
Иногда, чтобы подчеркнуть постоянность действия, Эвенс спаивает фазы в одно ритмичное пятно. Движение героев становится будто сердечным импульсом на мониторе: возникнут проблемы, если он прервется. Герои Эвенса, такие живые и достоверные, как правило, действуют в абсолютной пустоте: так нас ничто не отвлекает, наоборот: так отчетливо слышно каждое признание, пусть даже произнесенное шепотом. Оттого такой поразительной, выбивающей почву из-под ног становится каждая сцена, в которой появляется пространство: хаотичное, сумасшедшее, такое громкое, что в нем едва ли возможно расслышать хотя бы себя. Кажется даже, что диалоги потому-то такие пронзительно искренние и живые, что помещены в среду, полностью расчеловечивающую героев. И для создания такой среды Эвенс использует весьма нехарактерный для комикса набор инструментов.
Вторая половина XX века стала временем переосмысления границ не только для комикса, но и в целом — для графических нарративов. Еще не объединенные в общее поле, тем не менее, они двигались схожими путями (что закономерно: все же ни одно искусство не развивается в вакууме). И в то время как комикс проходил все стадии взросления, в рамках детской литературы зародился, казалось бы, абсолютно противоположный по духу жанр виммельбуха, который, тем не менее, оказал огромное влияние на комикс вообще, и на работы Брехта Эвенса в частности. Обычно появление виммельбухов связывают с именем немецкого иллюстратора Али Митгуша, чей первый сборник «мельтешащих картинок» Rundherum in meiner Stadt появился в 1968 году. И хотя попытки зайти в этот жанр совершались и раньше (например, вспоминается великолепный разворот 1937 года «Новогодняя вечеринка для самых известных комикс-персонажей», нарисованный художниками известной в то время комикс-ассоциации New Cartoon Faction Group для японского журнала Asahi Graph), именно конец 60-х оказался временем, наиболее иконичным для такого вида графического нарратива. Ведь именно в это время Ролан Барт одним из первых задается вопросом, так ли верен наш подход к тексту, как к некому шифру, который мы можем декодировать, и действительно ли, изучив фигуру писателя и его текст вдоль и поперек, мы можем с точностью определить, «что же хотел сказать автор»?
Вторая половина XX века стала временем переосмысления границ не только для комикса, но и в целом — для графических нарративов. Еще не объединенные в общее поле, тем не менее, они двигались схожими путями (что закономерно: все же ни одно искусство не развивается в вакууме). И в то время как комикс проходил все стадии взросления, в рамках детской литературы зародился, казалось бы, абсолютно противоположный по духу жанр виммельбуха, который, тем не менее, оказал огромное влияние на комикс вообще, и на работы Брехта Эвенса в частности. Обычно появление виммельбухов связывают с именем немецкого иллюстратора Али Митгуша, чей первый сборник «мельтешащих картинок» Rundherum in meiner Stadt появился в 1968 году. И хотя попытки зайти в этот жанр совершались и раньше (например, вспоминается великолепный разворот 1937 года «Новогодняя вечеринка для самых известных комикс-персонажей», нарисованный художниками известной в то время комикс-ассоциации New Cartoon Faction Group для японского журнала Asahi Graph), именно конец 60-х оказался временем, наиболее иконичным для такого вида графического нарратива. Ведь именно в это время Ролан Барт одним из первых задается вопросом, так ли верен наш подход к тексту, как к некому шифру, который мы можем декодировать, и действительно ли, изучив фигуру писателя и его текст вдоль и поперек, мы можем с точностью определить, «что же хотел сказать автор»?
“
Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста. <...>В многомерном письме все приходится распутывать, но расшифровывать нечего; структуру можно прослеживать, «протягивать» (как подтягивают спущенную петлю на чулке) во всех ее повторах и на всех ее уровнях, однако невозможно достичь дна; пространство письма дано нам для пробега, а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение смысла.
В графическом нарративе смерть автора стала отправной точкой на пути к отказу от управления читательским взглядом. А абсолютным воплощением этого подхода стал виммельбух. В виммельбухе важнейшим элементом становится воля читателя, выбирающего, в каком порядке взгляд движется по развороту, решающего, за какими героями следить, переворачивая страницы (а, может, и не следить ни за кем вовсе, а просто обозревать картину в целом). Виммельбух — полная противоположность кадра, в котором мы намерено помещаем в рамку лишь определенные объекты, то есть совершаем выбор еще до того, как читатель впервые увидит картинку. И если свобода, которую дает читателю Ричард Макгуайр — это свобода перебирать слепки моментов в произвольном порядке, то свобода, которую дает виммельбух — это видеть мир целиком, во всем его великолепии и разнообразии. Хотя виммельбух берет свое начало из детской литературы и основной его фонд составляют работы таких известных детских авторов, как Али Митгуш, Ротраут Сузанна Бернер и Мицумаса Анно, сейчас он часто становится полем и для взрослого художественного высказывания. Одним из самых интересных примеров «взрослых» виммельбухов, пожалуй, можно назвать «Фонд Кебби», выполненный французским художником Яном Кебби для серии Lontano издательства Actes Sud.
Кебби придумал свой фонд в 2018 году, когда он жил в Экс-ан-Провансе. Там, в рамках фестиваля комиксов BD Aix, он работал в старой студии Поля Сезанна. Когда его попросили переосмыслить некоторые из любимых картин мастера, он остановился на серии работ «Гора Сент-Виктуар». Сезанну так нравился этот пейзаж, что он написал его восемьдесят семь раз. Кебби создал «Фонд Сент-Виктуар» — изображения вымышленного музея, выставляющего всю серию Сезанна. Эта идея легла в основу его собственного фонда, в котором посетители переходят из зала в зал, разглядывают работы Кебби, сами при этом являясь не менее интересным объектом для наблюдения. Так, Синтия Роуз отмечает в своем эссе для The Сomics Journal:
Кебби придумал свой фонд в 2018 году, когда он жил в Экс-ан-Провансе. Там, в рамках фестиваля комиксов BD Aix, он работал в старой студии Поля Сезанна. Когда его попросили переосмыслить некоторые из любимых картин мастера, он остановился на серии работ «Гора Сент-Виктуар». Сезанну так нравился этот пейзаж, что он написал его восемьдесят семь раз. Кебби создал «Фонд Сент-Виктуар» — изображения вымышленного музея, выставляющего всю серию Сезанна. Эта идея легла в основу его собственного фонда, в котором посетители переходят из зала в зал, разглядывают работы Кебби, сами при этом являясь не менее интересным объектом для наблюдения. Так, Синтия Роуз отмечает в своем эссе для The Сomics Journal:
“
Настоящее очарование всех этих гигантских произведений заключается в их мини-сагах, бесчисленных крошечных историях, показанных мельком. Мужчина и женщина, которые встречаются, образуют пару, становятся родителями, а затем расходятся. <...> Привидение или человек в огне, нудист и скелет. Вместе эти посетители смотрят, потеют, курят, перекусывают, загорают, делают селфи или даже иногда кричат. Появляется и сам Кебби, а также его родители и несколько друзей.
Художник виммельбуха обладает уникальным зрением. Он способен смотреть на здания в разрезе, его волей перспектива искажается так, что мы с равной отчетливостью видим события, происходящие на разных планах, а крыши домов видны, даже когда мы смотрим в упор на прохожих на улице. Это одновременно и оптика беспощадной камеры наблюдения или, скажем, вездесущего дрона, и оптика мобильного телефона, с которого мы делаем селфи в толпе. Наверное, примерно так мог быть смотреть нам мир Создатель: видя одновременно всё и каждого. И этот взгляд, несмотря на внушительную генеалогию, удивительно иконичен текущему моменту, в котором мир отражается одновременно в десятках различных экранов.
«Полуночники», Брехт Эвенс, СПБ.: Бумкнига, 2021
Для Эвенса этот взгляд — способ помещения героев в контекст. Йона выходит из квартиры, едва закончив разговор с женой — приватную беседу, которую нам удалось не то, что даже подслушать, но, скорее, быть ее частью: так стремительно наше погружение в судьбу героев. Но уже на следующей странице перед нами весь жилой комплекс, похожий то ли на макет, то ли и вовсе на кукольный домик, и мы становимся Архитекторами из «Матрицы» — бесконечно дистанцированными, но при этом всевидящими. Йона заходит в бар, и мы снова рядом, мы такие же завсегдатаи, как и он. И мы здесь, чтобы выхватить взглядом вновь прибывающих гостей, ведь следом за Ионой сюда заходят и Вик, и Родольф. Но стоит нам шагнуть на летнюю веранду, как взгляд снова становится взглядом камеры наблюдения: беспристрастной, но вернее — смотрящей на все с равным вниманием.
Сцена прохода Йоны через летнюю веранду заслуживает отдельного внимания. На первом развороте мы вольны разглядывать зал в той последовательности, в которой нам хочется; и Йона, и Родольф, и Вик здесь — лишь одни из многих. Но как только мы переворачиваем страницу, Эвенс тут же указывает нам, на что смотреть, при том, что наполненность разворота не меняется. И если сначала перед нами очевидно шумная толпа, хотя на развороте вообще нет текста, то затем мы будто оказываемся за плечом у каждого в этой толпе и слышим его так, словно всех остальных Господь поставил на паузу. Это фантастическая синестезия, где шум создается красками, а текстом, внезапно, — тишина. Всего двумя разворотами Эвенс вызывает такую бурю чувств, что из них можно было бы составить отдельный виммельбух.
На протяжении 120 лет своей истории комикс добивался глубины и психологизма самыми разными способами. Когда-то подспорьем служил голос рассказчика (как, например, в «Священной болезни» Давида Б. или в «Маусе» Арта Шпигельмана), когда-то повествование строилось на сложной системе символов и отсылок (как, например, в альтернативной манге Сэйити Хаяси), в некоторых случаях, как, скажем, в сегменте популярного комикса в духе «Сказаний» раскрытию героев способствовал колоссальный объем произведений. Каждая эпоха и локация рождала свой набор инструментов, который позволял говорить на те темы, что волновали читателя в тот момент. Так набор инструментов, которыми пользуется Эвенс, так же адекватен эпохе, в которой он действует. Однако поражает не столько даже уместность этих инструментов, сколько их точность и разнообразие.
На протяжении 120 лет своей истории комикс добивался глубины и психологизма самыми разными способами. Когда-то подспорьем служил голос рассказчика (как, например, в «Священной болезни» Давида Б. или в «Маусе» Арта Шпигельмана), когда-то повествование строилось на сложной системе символов и отсылок (как, например, в альтернативной манге Сэйити Хаяси), в некоторых случаях, как, скажем, в сегменте популярного комикса в духе «Сказаний» раскрытию героев способствовал колоссальный объем произведений. Каждая эпоха и локация рождала свой набор инструментов, который позволял говорить на те темы, что волновали читателя в тот момент. Так набор инструментов, которыми пользуется Эвенс, так же адекватен эпохе, в которой он действует. Однако поражает не столько даже уместность этих инструментов, сколько их точность и разнообразие.
Нарративная арка каждого героя «Полуночников» пронзительна. В каждой — много достоверного, подмеченного очень тонко и рассказанного выразительно. Однако, кажется, что путь, проделанный Родольфом, все же наиболее значимый. Впервые мы видим Родольфа (впрочем, его имя мы узнаем позже, сначала прозвучит лишь прозвище — Барон Суббота) при входе все в тот же бар, в котором собрались все остальные герои. Однако с первого взгляда нам становится ясно, что в этом баре ему откровенно плохо и неуютно. Он запинается, разговаривая с официанткой, болезненно реагирует на встречу со старыми приятелями, он пришел сюда с огромной упаковкой туалетной бумаги в двенадцать рулонов и ему за это явно стыдно. Эвенс — непревзойденный мастер очень малыми композиционными средствами добиться максимальной выразительности, и в образе Барона Субботы это, пожалуй, заметно, как нигде. Все формообразование Барона устроено таким образом, чтобы, оставаясь узнаваемым каждую секунду, трансформироваться, точно передавая эмоции персонажа: вот он готов коммуницировать со старой подругой, а в следующую минуту он закрывается, поскольку чувствует себя неуютно, вот в диалоге со старым знакомым повисла пауза и оба буквально деревенеют на глазах. Художественная эволюция персонажа поддерживает эволюцию сюжетную. История Барона Субботы — это история нейроотличного человека, которому сложно смириться с поставленным диагнозом. Он посещает психиатрку, но не чувствует к ней доверия, он не может понять, где он, а где — прописанная ему схема лекарств, ему кажется, что, возможно, без лечения ему было лучше. Он не чувствует, что поступает правильно, и в один момент вновь оказывается в том маниакальном состоянии, от которого пытался уйти. Это изумительно изящно — то, как Эванс решает момент преобразования персонажа на визуальном уровне, как он объясняет его с сюжетной точки зрения. Крошечная сцена танца, едва заметные детали — вот партнерка по танцу снимает с него шляпу, вот она распускает ему волосы, вот ее ободок с кошачьими ушками оказывается на его голове — и вот перед нами вместо человека чудовище.
Стоит отметить, что Барон Суббота списан с самого Эвенса. И, конечно, это то, что помогает автору выстроить достоверный образ, додать тех уникальных, но при этом узнаваемых ситуаций, благодаря которым герой становится живым. Барон рассказывает своей подруге о том, как тяжело ему с его психиатркой: он слышит, сидя возле кабинета, как та смеется с другой своей клиенткой и понимает, что сам быть таким же забавным точно не сможет. И в этом переживании столько знакомого каждому, что мы неизбежно проникаемся к герою сочувствием (особенно, когда спустя сто страниц слышим рассказ Вик, которая как раз и была той самой второй клиенткой: «И вот сегодня я поняла, что мне больше не на что жаловаться, а оставалось еще двадцать минут. И мы поболтали о психозе Канье Уэста, а потом я увидела «Большую книгу еврейского юмора» и спросила, можно ли почитать. И оставшееся время мы зачитывали друг другу еврейские анекдоты»).
Интересно, что в том или ином виде Эвенс вписывает себя едва ли не в каждую историю. Так, в рамках конференции Школы дизайна НИУ ВШЭ «Теории и практики искусства и дизайна» Эвенс рассказывал, что «Пантера» изначально была лишь переложением и продолжением игры, в которую Эвенс играл со своей девушкой: иногда в разговорах он притворялся другими людьми, используя разную мимику и интонации, и эти метаморфозы так его увлекали, что он решил посвятить им книгу. Однако, когда история начала обретать свое воплощение и Эвенс увидел, какие новые смыслы в ней появляются, он намеренно отказался прояснять свое высказывание, позволяя читателям самим делать выводы о том, что происходит в книге. К этому моменту смысловое поле романа невероятно разрослось и невинная история об игре превратилась в леденящее душу исследование образа воображаемого друга. В рамках этой конференции Эвенс показывал слайды с вдохновляющими его персонажами и отмечал, что, как правило, в общем культурном поле воображаемый друг принимает вид ужасного монстра, оставаясь по своей природе добрым и нежным, в то время как ему самому хотелось создать существо, поначалу лишь вызывающее легкие опасения, и только потом превращающееся в настоящего монстра.
Интересно, что в том или ином виде Эвенс вписывает себя едва ли не в каждую историю. Так, в рамках конференции Школы дизайна НИУ ВШЭ «Теории и практики искусства и дизайна» Эвенс рассказывал, что «Пантера» изначально была лишь переложением и продолжением игры, в которую Эвенс играл со своей девушкой: иногда в разговорах он притворялся другими людьми, используя разную мимику и интонации, и эти метаморфозы так его увлекали, что он решил посвятить им книгу. Однако, когда история начала обретать свое воплощение и Эвенс увидел, какие новые смыслы в ней появляются, он намеренно отказался прояснять свое высказывание, позволяя читателям самим делать выводы о том, что происходит в книге. К этому моменту смысловое поле романа невероятно разрослось и невинная история об игре превратилась в леденящее душу исследование образа воображаемого друга. В рамках этой конференции Эвенс показывал слайды с вдохновляющими его персонажами и отмечал, что, как правило, в общем культурном поле воображаемый друг принимает вид ужасного монстра, оставаясь по своей природе добрым и нежным, в то время как ему самому хотелось создать существо, поначалу лишь вызывающее легкие опасения, и только потом превращающееся в настоящего монстра.
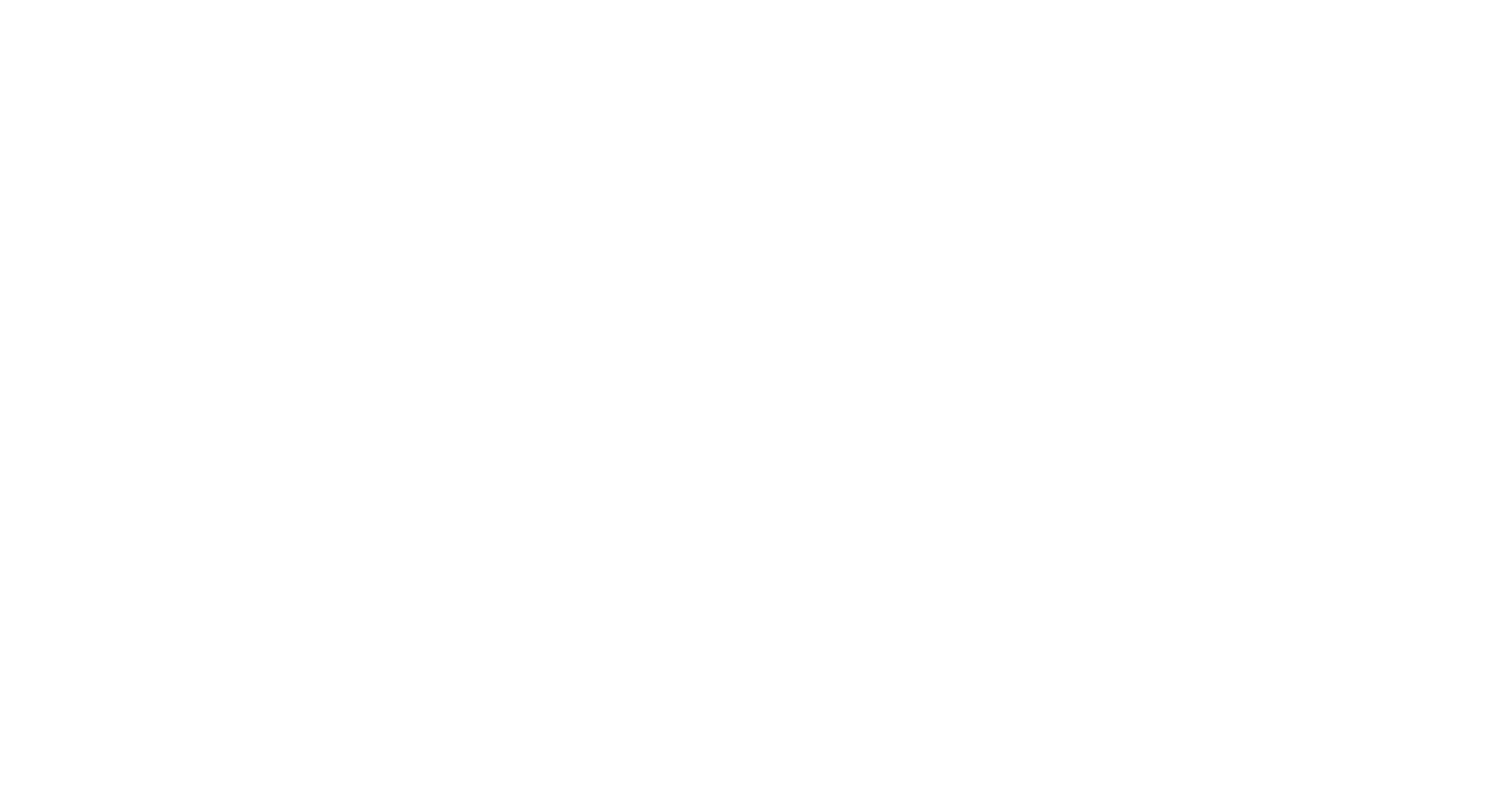
Фрагменты презентации, представленной Брехтом Эвенсом на конференции Школы дизайна НИУ ВШЭ «Теории и практики искусства и дизайна» 22 апреля 2021 г. В презентации Эвенс рассказывал о своем исследовании образа воображаемого друга в мировой культуре и показывал, как они повлияли на образ его Пантеры: «Бесконечная история» режиссера Вольфганга Петерсена, Монстры Мориса Сэндака из книги «Там, где живут чудовища», Чеширский кот в исполнении Джона Тенниала, Пантера Эвенса и «Кельвин и Хоббс» Билла Уоттерсона.
Эвенс — очень внимательный наблюдатель. Это относится и к его собственной повседневной жизни, где всякое событие может стать вдохновением для новых сюжетов, где диалоги и ситуации почти с документальной четкостью перемещаются в книги (и оттого моментально вызывают в нас радость и ужас узнавания), и к художественному языку, который строится на множественных интертекстуальных связях и внезапных экспериментах. Так, например, разворот со стеклянных шаром начался с того, что Эвенс попросил художницу Нину Ванденбемпт нарисовать часть картинки в ее авторском стиле. От этого фрагмента Эвенс строил всю последующую работу над разворотом. Интересным последствием этого эксперимента стало то, что стиль художницы проявился уже в собственном рисовании Эвенса в работе над другими сценами (в той же видеовстрече он показывал презентацию, в которой сравнивал рисование Нины и собственное):
Эвенс много обращается к мировой визуальной культуре. Он часто берет то, что далеко лежит, и это обеспечивает ему поразительное интонационное разнообразие. Здесь и гравюры Утагавы Куниёси, и Дэвид Хокни, и Адольф Вёльфли, и Блексболекс, и «Тинтин», и Брейгель, и персидская миниатюра. Все вместе помогает Эвенсу находить новые способы описывать жизнь во всем ее многообразии.
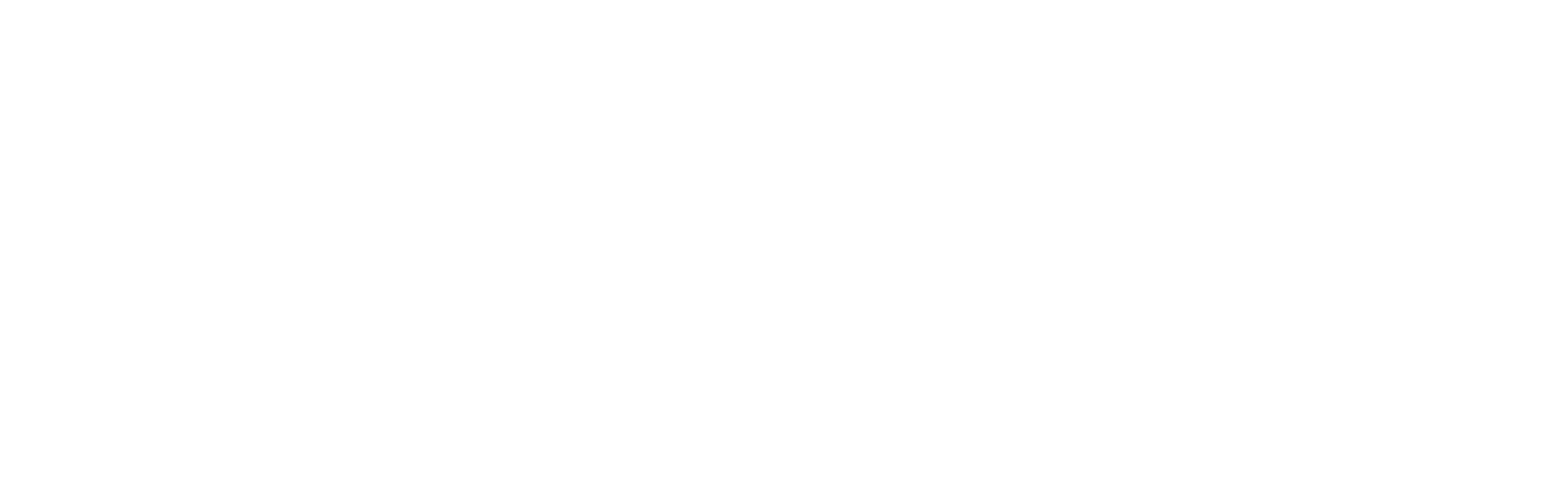
Фрагменты презентации, представленной Брехтом Эвенсом на конференции Школы дизайна НИУ ВШЭ «Теории и практики искусства и дизайна» 22 апреля 2021 г., в которой он рассказывал об источниках вдохновения в своей работе: картина Джерарда Форчуна, «Gede (Ghede, Guede)» (дата создания — ок. 1990-2015) и костюм протагониста Эвенса; Адская пасть. Часослов Екатерины Клевской (XV век) и фрагмент «Полуночников»; «Колыхающаяся поверхность осеннего потока» Ма Юань (годы жизни — 1160-1225 гг.) и работа Эвенса.
Однако особый интерес вызывают интертекстуальные связи между собственными работами Эвенса, созданными в разный период, поскольку «Полуночники» действуют в той же вселенной, что и герои одной из первых книг Эвенса «The Wrong Place». «The Wrong place» — это история об отношениях тихого и неловкого Гари, чья жизнь проходит в оттенках серого, и его школьного друга Робби — некой предтечи «Полуночников», звезды баров и ночных клубов, заядлого тусовщика и любимца публики. Книга состоит из трех новелл, в каждой из которых с разных сторон раскрывается характер двух персонажей, находящихся не на своем месте. Будь то Гари, чья вечеринка без Робби превращается в парад социальной неловкости, или Робби, чья веселая ночная жизнь не может подарить ему ни крупицы тепла и близости — в глазах Эвенса оба героя абсолютно потеряны и совершенно не справляются. В «Полуночниках» Эвенс продолжает развивать мир, построенный в «The Wrong Place». Ночной клуб «Гарем» — любимое заведение Робби — становится также местом знакомства Йоны с его женой. Здесь же проводит вечера Барон Суббота, здесь же он знакомится с Наоми, для которой ночная жизнь началась со знакомства с Робби. Эвенс даже точь-в-точь перерисовывает некоторые локации, проводя по ним новых героев и возвращая старых.
В таком подходе к собственному тексту есть что-то игровое: вместо того, чтобы запечатлеть образ места, автор расшатывает его границы, помещая в историю все новые и новые вводные. Так мир перестает быть раз и навсегда закрепленным каноном: ведь если спустя десять лет авторской волей здесь появились новые герои, то, кто знает, что еще может случиться. Обычно о таком игровом, «детском» восприятии текста говорят в связи с функцией читателя. Об этом, например, писал еще Лотман:
“
«Взрослая» аудитория воспринимает текст как получатель информации, она не вмешивается в происходящее в произведении, а стремится понять замысел автора. «Детская» же аудитория воспринимает текст как забаву, полагая, что она лучше знает, что следует делать героям, как им выглядеть и одеваться, т. е. воспринимает художественный текст как игру в куклы. А кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры.
Однако, мне кажется, важно не упускать из виду и собственно авторское взаимодействие. В своем исследовании «Метафоры пространства и его освоения в дискурсе авторов фанфикшн-текстов» Татьяна Воронина отмечала:
“
… в подобных контекстах последовательно реализуется метафора пространства. Во-первых, частотны случаи употребления лексемы «фандом» в сочетании с пространственными предлогами и глаголами нахождения, движения, перемещения («За рамки ГП-фандома я не выходила и выходить не собираюсь»)… Во-вторых, из рассматриваемых контекстов следует, что пространство фандома членится на подпространства: …пространство исходного произведения… и пространство фанатских текстов, в котором может формироваться свой канон — принимаемые за истину события и факты вселенной, в каноне не существующие (фанон). При этом миры реальный и фандомный пересекаются настолько, что элементы последнего осознаются как абсолютно «свои» и уже не кажутся фанатам чужеродными даже вне его.
Другими словами, фандом — при всей расплывчатости его границ, при всей кажущейся эфемерности его существования — реальное место, в которое можно попасть. Достигается это за счет коллективного усилия, где участник намеренно вкладывается в концепцию места: словно постоянно повторяющееся действие становится аргументом, убеждающим нас в существовании этого места. Мне кажется, что автор, возвращающийся к уже существующей вселенной, идет тем же путем. Недаром одними из самых фандомогенных вселенных за последние семьдесят лет стали серийные книги и фильмы (Гарри Поттер, Стар Трек, Звездные войны, Властелин колец, вселенная Марвел): во-первых, в больших объемах (хронометража или количества страниц) проще создать убедительную вселенную, а во-вторых, серийность сама по себе подразумевает это постоянное возвращение, то есть наделение вселенной плотностью и осязаемостью фандома. И потому так удивительно наблюдать, как возникает эта плотность и осязаемость в романе, абсолютно далеком от популярной культуры и к тому же не то, что огромном по объему. Эвенсу удается создать целый мир — собственное Средиземье — и при этом уместить его всего в один том (а ведь речь о графическом нарративе, который изначально требует значительно больше места, чем текст). И то, что получается в результате по насыщенности, по многогранности, по неожиданности ходов сравнимо не столько даже с крупными книжными или экранными сериями, сколько вообще с жизнью. Это то, что делает Эвенса таким исключительным. Создавая комикс, он не пытается переложить литературу на графический язык, он не тщится оживить картинку. В этом постоянном противостоянии он делает шаг назад, возвращаясь к первоисточнику — к жизни, которая состоит и из того, и из другого. Он будто заново изобретает все способы, которыми мы можем эту жизнь передать: не те, которые придумала графика, не те, которые были найдены в тексте (потому что и те и другие создавались исходя из своих формальных ограничений), но те, которые доступны только комиксу, как если бы ему первому дали описать этот мир.
Этот мир, который видит Эвенс, может пугать бесконечно. Здесь мы сами, такие потерянные, прячемся за отсылками к Делёзу, пытаемся скрыть собственный ужас, вдруг ясно понимая, что «взрослые — это, собственно, мы». Здесь мы вступаем в беспорядочные половые связи, потому что нам одиноко, но при этом не умеем чувствовать и создавать близость, потому что близость — это смелость, это умение показать свои уязвимости, это признание, что да, мы вот такие, какие есть, и с нами что-то может быть не в порядке. Здесь мы стоим полуголые под окнами своих родителей и орем: «Смотрите, ваш сын абсолютно здоров». Здесь мы все пристегнуты к этой бездне, которая внутри нас, и, кажется, она нас сейчас уничтожит. И сам Эвенс здесь же. Он тоже боится и тоже не знает, что делать. Он только верит, что есть какой-то выход из лабиринта. «Море, оно такое. Бывает и туман. Не беспокойся, молодой тигр, он нам ничего плохого не сделает» — слышит Родольф в конце книги. И это то утешение, которое есть у Эвенса для всех нас. Не то, что нас не ждет туман или что-то похуже, но так или иначе, мы сможем с этим справиться.
Этот мир, который видит Эвенс, может пугать бесконечно. Здесь мы сами, такие потерянные, прячемся за отсылками к Делёзу, пытаемся скрыть собственный ужас, вдруг ясно понимая, что «взрослые — это, собственно, мы». Здесь мы вступаем в беспорядочные половые связи, потому что нам одиноко, но при этом не умеем чувствовать и создавать близость, потому что близость — это смелость, это умение показать свои уязвимости, это признание, что да, мы вот такие, какие есть, и с нами что-то может быть не в порядке. Здесь мы стоим полуголые под окнами своих родителей и орем: «Смотрите, ваш сын абсолютно здоров». Здесь мы все пристегнуты к этой бездне, которая внутри нас, и, кажется, она нас сейчас уничтожит. И сам Эвенс здесь же. Он тоже боится и тоже не знает, что делать. Он только верит, что есть какой-то выход из лабиринта. «Море, оно такое. Бывает и туман. Не беспокойся, молодой тигр, он нам ничего плохого не сделает» — слышит Родольф в конце книги. И это то утешение, которое есть у Эвенса для всех нас. Не то, что нас не ждет туман или что-то похуже, но так или иначе, мы сможем с этим справиться.
Автор текста: Мария Скаф
Мы благодарим издательство «Бумкнига» и Брехта Эвенса за предоставленную возможность публикации изображений.
Мы благодарим издательство «Бумкнига» и Брехта Эвенса за предоставленную возможность публикации изображений.
