Контекст
Очень позитивные фотографии
Перевод одноимённой главы диссертации «Способ видеть: модернизм, иллюстрация и постколониальная литература»
Эмили Хайд (Emily Hyde)
Эмили Хайд (Emily Hyde)
В книге «Три гинеи» Вулф неоднократно упоминает фотографии мертвых тел и разрушенных зданий, отправляемых с передовой во время гражданской войны в Испании. Однако фотографии в этом тексте служат скорее риторической, чем иллюстративной цели. Читатель эти фотографии не видит, вместо них Вулф решила проиллюстрировать «Три гинеи» совсем другим набором снимков. Два набора фотографий — видимых и невидимых — прочно связаны между собой, как отверстия от выпавших сучков в романе «Годы». Снимки, которых нет, выполняют в тексте всю основную работу, да и фотографии, включенные в первые издания, впоследствии убрали и вернули только в 1990-х годах в Великобритании и в 2000-х в США. Испанские снимки служат рефреном: их описание повторяется практически слово в слово, они мгновенно узнаются даже в самом насыщенном повествовании и ставят точки. Точнее они отмечают в рассуждениях Вирджинии Вулф границы, за которые не может выйти язык. Как только в тексте возникают испанские фотографии, прозу Вулф прерывают многоточия: «Но тут слова застревают в горле и молитва сокращается до трех отдельных точек все из-за тех же фактов» [1]. Если фотографии лишь «констатация факта, адресованная глазу» (10), как лукаво утверждает Вулф в начале «Трех гиней», то испанские фотографии и связанные с ними многоточия выражают недоверие Вулф к подобным констатациям. Факт, который можно воспроизвести бесконечное множество раз, нельзя не узнать и невозможно описать словами, уже не факт, а риторика.
Подобная трактовка испанских фотографий противоречит активном вниманию критиков в последние годы. Встроенные в текст, фотографии становятся особенно материальными —черно-белые изображения сразу бросаются в глаза. Об этом пишет и сама Вулф: она называет испанские снимки «очень позитивными фотографиями» (102). Снимки выглядят неоспоримыми — они свидетельствуют о разрушениях, подтверждают их как Гойя в знаменитых «Бедствиях войны», серии картин о войне и разрушениях в Испании. Его самая известная подпись звучит как «Я это видел», а есть и другие — «И это тоже», «Это ужасно», «Вот как это было…» (рис. 6) [2]. Словесные свидетельства сыграли важную роль в распространении новостей из Испании, а в альбомах у Вулф есть памфлет 1937 года под названием «Мучения Мадрида», описанный как «неотредактированное свидетельство очевидца Луи Делапре». Делапре служил корреспондентом в газете Paris Soir, а его гневный пафлет наполняет риторика фотографических свидетельств. Памфлет начинается так: «Ниже последует простой перечет ужасов. Но он же будет свидетельством того, что я требую от всех поверить в невероятное, — и продолжает — Все изображения Мадрида, страдающего от мук, которые я просто обязан попытаться представить вашему взору — и которые в основном не поддаются никакому описанию — я все это видел сам» [3].
В «перечне ужасов» Делапре постоянно обращается к литературному языку фотографий, описывая осаду Мадрида. Гражданскую войну в Испании часто называют первой в мире войной, широко запечатленной фотожурналистами, только-только получившими в свое вооружение новые фотоаппараты Leica 35 мм. Почему тогда Вулф описывает эти фотографии, а публикует другие?
В «перечне ужасов» Делапре постоянно обращается к литературному языку фотографий, описывая осаду Мадрида. Гражданскую войну в Испании часто называют первой в мире войной, широко запечатленной фотожурналистами, только-только получившими в свое вооружение новые фотоаппараты Leica 35 мм. Почему тогда Вулф описывает эти фотографии, а публикует другие?
Критики, писавшие о фотографиях в «Трех гинеях», видят лукавство в том, что Вулф называет фотографии «констатациями факта, адресованными глазу», но для того, чтобы их анализировать, снимки должны быть еще и «позитивными» — еще один, даже более саркастичный термин, которым пользуется Вулф. Она никогда не публиковала простые или позитивные фотографические иллюстрации ни в одной из своих книг [4]. В «Орландо» Вулф включила явно постановочные фотографии субъекта своей фиктивной биографии, но каждый снимок сопровождается подписью как в обычной биографической прозе, например, «Орландо примерно в 1840 г.» (рис. 7). В книге «Флаш», еще одной фиктивной биографии, но на этот раз кокер-спаниеля Элизабет Баррет Браунинг, Вулф добавляет на обложку портрет высокородной викторианской леди с собачкой. Некоторые считают, что на портрете изображена сама Вулф, только ряженая [5]. Кроме того, под словом «позитивный» Вулф, похоже, понимает философскую/литературную позицию — то, что эти фотографии достоверно и реалистично показывают зверства испанской гражданской войны. В таком контексте то, как Вулф описывает испанские фотографии, напоминает знаковые образы художественного реализма. Она пишет:
Смотреть на эти фотографии неприятно. В основном это снимки мертвых тел. Подборка за сегодняшнее утро содержит фотографию тела, которое могло принадлежать как мужчине, так и женщине, хотя оно настолько изувечено, что с другой стороны вполне могло бы оказаться трупом свиньи. Но вот тут уже точно мертвые дети, а здесь, несомненно, часть какого-то здания. Бомба обрушила стену; там, где раньше, может быть, была гостиная, так и осталась висеть птичья клетка, а остальная часть выглядит почти как обычно, только в воздухе словно застыла горстка соломинок. (14)
В книге Le Diable Boiteux Ален Рене Лесаж описывает, как дьявол Асмодей сбрасывает крыши со всех домов в Мадриде, чтобы показать испанскому студенту, что происходит в домах (рис. 8). Этот напоминает традиции реалистического романа Франции и Англии, однако, бомбы разорвали помещения на части, что Вулф описывает как игру в соломинки и даже не пытается представить фотографии в позитивном ключе с реалистичными деталями. С этой точки зрения они становятся рефреном — указанием на невозможность описать их словами — состоящим из одной простой фразы «мертвые тела и разрушенные здания» [6].
Несмотря на тот факт, что испанские фотографии оформлены или, если говорить прямо, сублимированы в безликий лингвистический рефрен, новые критики уделяют им особое внимание из-за того, что они изображают — мертвые тела и разрушенные здания. Сара Коул в своем исследовании модернизма и насилия пишет: «Для Вулф фотография делает то, что другие формы репрезентации могут только отдаленно имитировать: отдает насилию должное». Это должное связано не с непосредственной способностью фотографий изображать насилие, а с тем, что они могут вызывать эмоциональное напряжение:
Подобные фотографии, по мнению Вулф, вызывают реакцию, соразмерную изображенным на них разрушениям. Сила фотографий прямо пропорциональна их прозрачности — можно считать это «реализмом» или «репортажностью», учитывая, какой резонанс вызвал фотожурнализм во время испанской гражданской войны… В этот кризисный момент фотографии отводится особая роль в разоблачении и недопущении войны, так как мнимая прозрачность такого носителя сразу погружает зрителя в образ насилия, и мгновенно вызывает реакцию. (56)
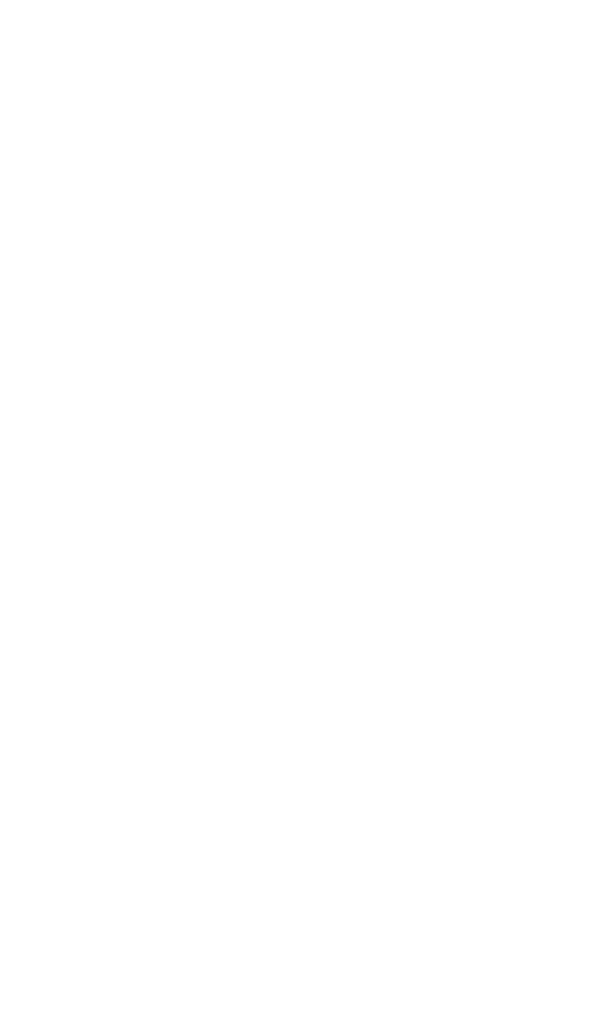
Рис. 8. Гравюра из книги Алена Рене Лесажа Le Diable Boiteux (1707)
Слово «прозрачность» в этом абзаце употребляется как синоним «реализма», «репортажа» и самого по себе понятия «очень позитивного» изображения. Коул признает, что эта форма противоречит тому, что пишет Вулф в «Трех гинеях», но хотя и отмечает, что включение этих снимков обратило бы аргументы Вулф к их «истинной и, возможно, непреодолимой силе», не признает, что тот факт, что фотографии остаются неувиденными, означает неверие Вулф в силу этих снимков или даже полностью лишает их этой силы.
Если испанские фотографии превращаются в устойчивый рефрен, то другой набор фотографий, изображающий англичанина в идеальном одеянии, в тексте Вулф не упоминается в принципе. Фотографии подписаны, но в описаниях предмета изображения нет конкретики: «Генерал», «Архиепископ». Прежде чем обратиться ко второму набору фотографий, я хотела бы вкратце отметить, что эти разные представления по сути решают одну и ту же задачу: оба набора фотографий лишены адекватных подписей и контекста, и по большому счету оторваны от внешнего мира. Как они могут изображать что бы то ни было достоверно, если мы даже не знаем, что именно они изображают? Фотографии войны, пишет Сьюзан Зонтаг, «должны поясняться или фальсифицироваться тем, что под ними написано». Возможно, Вулф, негодующе размышляет Зонтаг, «просто считает, что фотография может говорить сама за себя» [7]. Некоторые критики, включая Коул, пытались переосмыслить испанские фотографии в соответствующем контексте. Интересно, что эти изображения не встречаются в альбомах Вулф, но их удалось соотнести с немецким воздушным налетом на город Хетафе близ Мадрида 30 октября 1936 года. Ужасающие фотографии из Хетафе быстро превратились в пропаганду Испанской коммунистической партией и были опубликованы в Лондоне в газете Daily Worker 12 ноября 1936 года в подтверждение жестокости фашистов [8]. Вулф должна была прекрасно знать, что эти фотографии служили пропагандой, чтобы привлечь в Испанию Францию и Англию. Возможно, как раз этот простой факт объясняет нежелание Вулф их публиковать — они уже стали аргументом за войну, а «Три гинеи» прямо выступали против войны во всех ее проявлениях. Но пропагандистские фотографии тоже имеют свои условности и клише, определенный этикет, что само по себе подвергает сомнению их прозрачность и может полностью ее исключает. Зонтаг пишет: «фотографии жертв войны сами по себе уже форма риторики. Они подтверждают. Они упрощают. Они агитируют» [9]. Так что описательный рефрен у Вулф вряд ли «подтверждает» и «упрощает» те пропагандистские фотографии. Елена Гуальтьери отмечает, что птичья клетка в разбомбленной комнате уже стала клише к тому времени, когда Вулф о ней написала. Язык отсылок к этим фотографиям и их включения в текст «Трех гиней» состоит «затасканных фраз и отказывается хоть как-то оживлять эти снимки [а по факту превращать их в "агитацию"]»[10]. Вулф упоминает эти снимки в первую очередь не как «констатацию факта», а как объекты риторики, а нейтральный, шаблонный язык служит средством защиты от мира, в котором фотографии мертвых тел и разрушенных зданий могут сами по себе становиться оружием.
Сравните испанские фотографии с пятью портретами, опубликованными Вулф в «Трех гинеях». Они появляются в тексте вскоре после рассуждений Вулф о том, как «одевался образованный муж на государственной должности» (23). Эти фотографии подписаны: первая называется «Генерал» — это пожилой лорд Баден-Пауэлл, в лентах и с медалями, расплывшийся в улыбке перед камерой в шляпе с высоким плюмажем (рис. 9). Затем идут «Герольды» в элегантной униформе, дующие в горны; «Университетская процессия» с премьер-министром Стэнли Болдуином; «Судья», а именно лорд главный судья Гордон Геварт, шествующий в полном парике и мантии; и, наконец, «Архиепископ», а на самом деле его светлость архиепископ Кентерберийский Гордон Лэнг, со скипетром, в ризе и митре (рис. 10-13) [11]. Неопределенные артикли в подписях к снимкам лишают их способности быть «очень позитивными фотографиями». На самом деле в 1930-х годах люди на этих фотографиях узнавались легко и в статьях о публикации «Трех гиней» их упоминали, используя подлинные имена персонажей [12]. Вулф не старается сделать эти снимки понятными, напротив, ожидает, что читатели прочтут их иначе, увидят в них то, что на них не показано, т. е. на самом деле интерпретируют их негативно.
«Три гинеи» связывают угрозу войны с фашизмом как за границей, так и внутри страны; книга выросла из лекции «Профессии для женщин». В начале 1938 года ее издали в США частями под заголовком «Женщинам стоит лить слезы — или объединяться против войны» [13]. В своем итоговом виде книга состоит из трех писем, написанных мужчинам в ответ на вопрос «как нам предотвратить войну?». «Три гинеи» — работа одновременно феминистская и пацифистская, а два набора фотографий образуют прямую связь милитаризма с патриархией, открытой и частной тирании. Системы подавления и исключения схожи, утверждает Вулф, если только их удастся разглядеть. Пять фотографий, которые она включила в «Три гинеи», должны были отображать не «факт», а гендерно-дифференцированный взгляд на мир. В начале книги Вулф объясняет своему адресату мужского пола: «Мы смотрим на один и тот же мир, но видим его разными глазами». И продолжает: «Позвольте мне в качестве самого простого начала показать вам одну фотографию — грубо раскрашенное фото — вашего мира, каким он выглядит для нас, тех, кто смотрит на него с порога своего дома» (22). Набор черно-белых фотографий, похоже, выполняет роль этой грубо раскрашенной фотографии, и действительно далее Вулф с удивлением и ужасом описывает мужскую одежду, ленты и медали. Но потом она пишет: «Все, что нам доступно — это выразить мнение, лежащее на поверхности. Конечно, у поверхности могут быть какие-то связи с глубинами, но если мы хотим помочь вам предотвратить войну, то должны попытаться проникнуть глубже». Когда женщина смотрит на эти фотографии, она может отметить, что изображено на поверхности, но должна при этом помнить, что под поверхностью скрывается «множество внутренних, тайных комнат», в которые ей не войти (28).
Чтобы проникнуть в эти глубины, Вулф предлагает новый тип практики чтения. В отличие от испанских пропагандистских фотографий пять снимков, которые она публикует, выглядят вполне нейтрально, как будто из ежедневных газет. Читательницам женского пола доступны газеты — «голая история», как называет их Вулф (9) — но для представленных в книге снимков им нужно было создать абсолютно новый, незнакомый контекст [14]. Елена Гуальтьери отмечает, что фотографии, выбранные Вулф для публикации, демонстрируют главное событие конца 1936 года — не войну в Испании, а отречение Эдуарда VIII. Каждый человек на этих фотографиях имел отношение к английскому внутреннему кризису, а отречение вытеснило с передовиц практически все международные новости. По мнению Гуальтьери, привлекая внимание к этим фотографиям, Вулф отмечает момент, когда «политической и социальной силой стало не правление институтов, а производство фотографий» [15]. То, что вместо «мертвых тел и разрушенных зданий» Вулф решила опубликовать фотографии английской патриархии, отражает то, как ежедневные газеты вместо новостей из Испании печатали то, что Вулф в своем дневнике описывала как «Миссис Симпсон, попавшую в центр внимания в момент, когда она выходила из машины» [16]. В начале «Трех гиней» Вулф описывает разницу между наборами фотографий как между поверхностью и глубиной, хотя, если не считывать коды патриархии, опубликованные фото больше внимания привлекают к поверхности, к лентам и декорациям. Зато представление неопубликованных фотографий войны без визуальных кодов пропаганды усиливает внимание к политической и милитаристской идеологиям, как раз и ставших причиной «мертвых тел и разрушенных зданий». Практика чтения здесь у Вулф негативна — она меняет поверхность и глубину местами, делая их видимыми, но при этом несовместимыми.
Феминистская политика, в пользу которой Вулф выступает в «Трех гинеях», отражает негативность этой практики чтения: она защищает бедность, насмешливость, сдержанность, гибкость, секретность и безразличие принципов Общества аутсайдеров [17]. Общество аутсайдеров должно было практиковать безразличие к патриотизму и войне, что выражалось не столько в апатии, сколько в непредвзятости, основанной как на фактах, так и на здравом смысле (127). Безразличие аутсайдеров происходит из их отличия: пространные тексты сносок в книге Вулф и альбом с вырезками из статей, демонстрирующих гендерное неравенство. Как испанские и английские фотографии работают в паре, а практика негативного толкования Вулф меняет местами поверхность и глубины, так и различие и безразличие переплетаются на всем протяжении «Трех гиней».
Аутсайдеры используют безразличие в поисках мира «средствами, из-за этого различия предоставленными в наше расположение другим полом, другой традицией, другим образованием и другими ценностями» (134). Близнец различия — различия, очевидного, исследованного и проанализированного, — не сходство, а безразличие.
Аутсайдеры используют безразличие в поисках мира «средствами, из-за этого различия предоставленными в наше расположение другим полом, другой традицией, другим образованием и другими ценностями» (134). Близнец различия — различия, очевидного, исследованного и проанализированного, — не сходство, а безразличие.
Кое-что от бедности, гибкости, секретности и безразличия Общества аутсайдеров есть и в основном типографическом мотиве «Трех гиней» — многоточиях. Если «мертвые тела и разрушенные здания» служат рефреном для испанских фотографий, то многоточия — это не просто несколько точек, а практически самостоятельная фраза, мотив, производящий всегда одно и то же впечатление: невозможность выразить словами. Вулф постоянно привлекает внимание к применению этого мотива; в начале книги она пишет своему адресату-мужчине: «Но… эти три точки указывают на опасное место, бездну столь глубокую между нами, что вот уже три года и более я сижу на своей стороне, сомневаясь, будет ли польза от попыток достучаться через нее до вас» (6). Три года указаны потому, что, вероятно, столько времени Вулф собирала факты. Столько же длилась программа университетского образования, в которой ей было отказано. Столько было у нее корреспондентов, ее гиней, и столько точек в многоточии. Три точки напоминают еще и три штриха в звездочке, которую Вулф рисовала на полях в «Парджитерах» и превратила в чернильное пятно в книге «Годы». Позднее в «Трех гинеях» этот типографический символ получил новое имя:
… Какие возможные сомнения, какие колебания могут скрываться за этими точками? Что за причина или какая эмоция могут заставить нас сомневаться в том, чтобы стать членом общества, цели которого мы одобряем, и которое поддерживаем собственными средствами? Возможно, ни причины, ни эмоции нет, а есть нечто более глубокое и фундаментальное, чем и то, и другое. Это может быть различие. Мы различаемся, как показали факты, полом и образованием. И из-за этого различия, как мы уже сказали, может исходить наша помощь, если мы в принципе можем помочь, в защите свободы, в предотвращении войны. (123)
Многоточие появляется там, где слова не работают. Три точки — это упрощенный, секретный язык, безразличное молчание. Но у них есть и гибкость, если вспомнить еще один термин Вулф. Многоточие соединяет два грамматически разрозненных элемента в одно предложение. В «Трех гинеях» не просто указываются различия, а еще и выделяется механика соединения. Например, Вулф обращается к адресату-мужчине:
Прежде всего, поэтому, рассмотрим, как мы можем помочь вам предотвратить войну, защищая культуру и интеллектуальную свободу, поскольку вы убеждаете нас, что есть связь между этими довольно абстрактными словами и теми очень позитивными фотографиями — снимками мертвых тел и разрушенных зданий. (102)
Вулф уже показала, что два ее набора фотографий отнюдь не «очень позитивные», и в дальнейшем объясняет «эти абстрактные слова» простыми, конкретными терминами (культура — это «беспристрастное чтение и письмо на английском языке», а интеллектуальная свобода — «право говорить и писать, что думаешь, своими словами») (108-109). Связь, которую она здесь проводит, пролегает между абстрактным и конкретным, поверхностью и глубинами, свободой и подневольностью: она рекомендует такую практику чтения, в которой будет место и для образа, и для факта (или термина).
В связи с этим Вулф завершает книгу визуальным представлением связи — описательным образом фотографии, проявляемой в темной комнате ее текста.
Пока писалось это письмо и факт добавлялся к факту, проявилась еще одна фотография. Это мужская фигура; одни утверждают, а другие отрицают, что это есть сам Человек, квинтэссенция мужественности, идеальный тип, рядом с которым все остальные лишь несовершенные подобия. […] Его называют по-немецки Фюрер, а по-итальянски Дуче, мы же зовем его Тираном или Диктатором. А за ним лежат разрушенные здания и мертвые тела — мужчины, женщины и дети. […] Все это показывает, что общественный и частный миры неразрывно связаны, что тирания и покорность одного — все равно что тирания и покорность другого. (168)
Нам известны это лицо и эта фигура. Это Левиафан; он же напечатан в вечерней газете в книге «Годы». Элеонор клянется, что видела его, шокируя тем самым юную племянницу, и рвет размытое фото пополам (313). В «Трех гинеях» Вулф не рвет изображение, а накладывает его поверх, создавать сборный образ, в котором есть как институциональная помпа неопубликованных фотографий, так и мертвые тела и разрушенные здания с испанских фотографий. Диктатор или Тиран — «идеальный тип»; его глаза сверкают; он одет в униформу и носит медали; «другие мистические символы» блестят у него на груди. У него меч. Он воплощает собой мужчин в прекрасно сидящей униформе на опубликованных Вулф фотографиях и стоит на фоне мертвых тел и разрушенных зданий в Испании. Это последнее изображение в «Трех гинеях», оно стоит особняком в своем сложносочиненном визуальном представлении практики чтения, рекомендуемой Вулф на протяжении всей книги. Такой экфрасис является для остального текста «семиотическим другим», а вот риторика встроена в различие, инаковость, непринадлежность всегда [18]. И все же Вулф ясно дает понять, что ее экфрастическое изображение призвано не только показать различие, что лишь «еще больше распалит стерильную эмоцию ненависти» (168). Она утверждает, что фото человеческой фигуры должно вызывать и более продуктивное переживание — лицо человека, прямо глядящее с «грубо раскрашенной фотографии», предполагает не просто пассивное наблюдение, но активный обоюдный интерес [19] (168). Таким образом, изображение также должно предполагать глубину, «другие связи, лежащие намного глубже, чем факты на поверхности» фотографии (169). Эта составная фотография олицетворяет различие и связь, поверхность и глубину, но не эстетическое единство или близость.
Я сравнивают позднюю Вулф и прежде всего это совмещение фотографий с той Вирджинией Вулф, что появляется в «Мимесисе» [20] Ауэрбаха. В некотором роде Ауэрбах тоже думал о том, как предотвратить войну: его авторитетная оценка отражения реальности в западной литературе, написанная евреем из Германии, пережидавшим Вторую мировую войну в Стамбуле. Он заканчивает книгу Вирджинией Вулф, и ее стиль служит метафорой его собственного критического подхода в «Мимесисе». В своем знаменитом эссе «Коричневый чулок» он представляет Вулф времен произведения «На маяк» как образец реализма. Описание штопки коричневого чулка превращается в «более искреннюю, более глубокую и даже более реальную реальность», чем когда-либо казалось возможным [21]. Ауэрбах утверждает, что она это делает, добиваясь «особой свободы» от внешнее мира: «внешние события фактически утратили свою гегемонию, они служат для высвобождения и толкования внутренних событий, в то время как до нее (а во многих случаях и по сегодняшний день) внутренние движения преимущественно лишь подготавливали и мотивировали значимые внешние проявления» [22]. Аэурбах восхищается взаимодействием между внутренним сознанием и внешним стимулом — реальный мир утратил гегемонию, он выглядит «случайным и бедным» по сравнению с глубинами внутреннего мира миссис Рамзи. Реальность текущего момента, «которую автор показывает прямо и которая выглядит как установленный факт… не более чем случайность» [23]. Вулф, как превосходный модернист, эстетизирует «установленный факт» и освобождается от его ограничений. Особенно обстоятельным этот анализ выглядит в контексте мировой войны: Ауэрбах описывает «смещение акцентов» и отказ от описания «поворотных моментов в жизненных судьбах» с тоской, как указание на разные способы писать и проживать историю [24].
Но затем Ауэрбах делает шаг вперед и заявляет, что демократический стиль Вирджинии Вулф приведет к «унификации и упрощению» [25]. В этом известном оптимистическом заключении он исходит из характерного для модернистов понимания поверхности, глубины и различия. В подтверждение своей точки зрения Ауэрбах пишет следующее:
Чем больше людей изображаются в такие произвольно выбранные моменты, чем сильнее различаются эти люди, чем они проще, тем сильнее должна светить в эти мгновения человеческая всеобщность жизни. Из такого непредвзятого, поискового изображения можно усмотреть, насколько уже теперь уменьшились различия между формами жизни и мышлением людей… Нет больше экзотических народов. Сто лет назад корсиканцы и испанцы производили экзотическое впечатление (например, у Мериме), а теперь экзотичными не назовешь и китайских крестьян у Перл Бак [26].
Под поверхностными конфликтами, выраженными здесь смуглой кожей или возделыванием плодородной земли, проходит «обычная жизнь человечества». Различие на поверхности, обычная жизнь под ней, и «Мимесис» предсказывает великое «экономическое и культурное выравнивание», которое должно произойти в XX веке. В заключении, полном утопической тоски и в то же время мечтательном, Ауэрбах уповает на Вулф, стиль которой сглаживает различие.
При этом в «Годах» и «Трех гинеях» Вулф обращается к поверхности фотографий, чтоб показать, а не сгладить различие. Действительно ли больше нет экзотических народов? Есть же англичане, отвечает она. Просто взгляните на факты, эти фотографические поверхности. Однако практика рассматривания этих поверхностей не может быть автоматической или некритической — невозможно остаться на поверхности и не провалиться сразу в глубину. Описав совмещенную фотографию Тирана или Диктатора, Вулф превращается, пусть на мгновение в Вулф Ауэрбаха. Измененное, экфрастическое изображение предполагает, «что мы не можем отделить себя от фигуры на снимке и сами становимся этой фигурой». Так через различие она создает связь. Она продолжает: «Общий интерес нас объединяет; существует один единственный мир, одна жизнь» (168). На секунду она слышит не «грохот орудий и рев граммофона», а голоса поэтов, обсуждающих «способность человеческого духа преодолевать границы и объединяться в многообразии» (169). Однако она уже успела подробно рассмотреть фотографии и возвращается к ним, к фактам: «Пусть же поэты рассказывают нам, что такое мечта, мы же вернемся к той фотографии: к факту» (169). Позиция безразличия требует признания различий и общих интересов, факта и представления, поверхности и глубины причем постоянно. От «Паржитеров» до «Лет» и «Трех гиней» Вулф нарушает традиции реализма, согласно которым текст нужно читать таким образом, как будет он открывает эмпирический мир, но не заменяет его модернистским шаблоном, где в центре всего находится «я». Вместо этого она создает образ эстетической близости, а затем снова отступает к поверхности, к факту неминуемой войны. Отступление описывается шаблонным, манерным языком: она дает адресату гинею и просит прощения за то, что отняла у него так много времени.
1 — Вирджиния Вулф, «Три гинеи» (Нью-Йорк: Harvest, 2006), стр. 91. Далее цитаты из этого издания приводятся в круглых скобках.
2 — Франсиско Гойя Лусьентес, «Бедствия войны» (Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1967 г.), стр. 44-47.
3 — Вирджиния Вулф, Reading Notebooks, Monk's House Papers, University of Sussex. Друзья Делапре опубликовали памфлет, узнав, что редакторы Paris Soir подвергли многие его депеши цензуре. Вырезанные из газеты строки в памфлете выделены курсивом. См. Merry L. Pawlowski, "'Seule la culture désintéressée: Virginia Woolf, Gender, and Culture in Time of War" в War and Words: Horror and Heroism in the Literature of Warfare, ред. Sara Munson Deats, Lagretta Tallent Lenker, Merry G. Perry (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004), стр. 215-233. Вулф цитирует Делапре в «Трех гинеях» в сноске о сержанте Амалии Бонилла, убившей пятерых мужчин (210).
4 — Единственное исключение — «Роджер Фрай», крайне благодушная биография друга Вулф. Диана Ф. Гиллепспи описывает, как снимала свои частные фотографии Вулф: эти были не «позитивные» семейные снимки, а постановки с костюмами, позы, драпировки и сады, Известные мужчины и Красивые женщины. См. Diane Gillespie, "'Her Kodak Pointed at His Head:' Virginia Woolf and Photography", сборник The Multiple Muses of Virginia Woolf, ред. Diane F. Gillespie (Columbia: Univ. of Missouri Press, 1993). Мэгги Хамм рассказывает, что Вулф заполняла свои фотоальбомы Monks House «как зрительные образы, а не в хронологическом порядке», статья "Virginia Woolf's Photography and the Monks House Albums", сборник Virginia Woolf in the Age of Mechanical Reproduction, ред. Pamela L. Caughie (New York: Garland Publishing, 2000), стр. 220.
5 — Maggie Humm, "Flush, or Who Was the Woman in the Photograph?" Virginia Woolf Miscellany 74 (2008): стр. 13-4.
2 — Франсиско Гойя Лусьентес, «Бедствия войны» (Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1967 г.), стр. 44-47.
3 — Вирджиния Вулф, Reading Notebooks, Monk's House Papers, University of Sussex. Друзья Делапре опубликовали памфлет, узнав, что редакторы Paris Soir подвергли многие его депеши цензуре. Вырезанные из газеты строки в памфлете выделены курсивом. См. Merry L. Pawlowski, "'Seule la culture désintéressée: Virginia Woolf, Gender, and Culture in Time of War" в War and Words: Horror and Heroism in the Literature of Warfare, ред. Sara Munson Deats, Lagretta Tallent Lenker, Merry G. Perry (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004), стр. 215-233. Вулф цитирует Делапре в «Трех гинеях» в сноске о сержанте Амалии Бонилла, убившей пятерых мужчин (210).
4 — Единственное исключение — «Роджер Фрай», крайне благодушная биография друга Вулф. Диана Ф. Гиллепспи описывает, как снимала свои частные фотографии Вулф: эти были не «позитивные» семейные снимки, а постановки с костюмами, позы, драпировки и сады, Известные мужчины и Красивые женщины. См. Diane Gillespie, "'Her Kodak Pointed at His Head:' Virginia Woolf and Photography", сборник The Multiple Muses of Virginia Woolf, ред. Diane F. Gillespie (Columbia: Univ. of Missouri Press, 1993). Мэгги Хамм рассказывает, что Вулф заполняла свои фотоальбомы Monks House «как зрительные образы, а не в хронологическом порядке», статья "Virginia Woolf's Photography and the Monks House Albums", сборник Virginia Woolf in the Age of Mechanical Reproduction, ред. Pamela L. Caughie (New York: Garland Publishing, 2000), стр. 220.
5 — Maggie Humm, "Flush, or Who Was the Woman in the Photograph?" Virginia Woolf Miscellany 74 (2008): стр. 13-4.
6 — Сьюзан Зонтаг заявляет, что «быть свидетелем несчастий, происходящих в другой стране, — квинтэссенция современной жизни», и начинает рассказ о своем опыте именно с Вулф. Зонтаг критикует Вулф за использование испанских фотографий, но не комментирует ее решение не включать эти снимки в книгу. (Следует отметить, что Зонтаг также не включила в свои книги о фотографии ни одного изображения.) См. Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2003), стр. 18. Другие упоминания о фотографиях в «Трех гинеях»: Emily Dalgarno, Virginia Woolf and the Visible World (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001); Julia Duffy and Lloyd Davis, "Demythologizing Facts and Photographs in Three Guineas," сборник Photo-Textualities: Reading Photographs and Literature, ред. Marsha Bryant (Newark: Univ. of Delaware Press, 1996), стр. 128-140; Elena Gualtieri, "The Cut: Instantaneity and the Limits of Photography," English Language Notes 44, no. 2 (2006), стр. 9-24; Merry Pawlowski, "Virginia Woolf's veil: the feminist intellectual and the organization of public space," Modern Fiction Studies 53.4 (2007): стр. 722-751; Maggie Humm, "Memory, Photography, and Modernism: The 'dead bodies and ruined houses' of Virginia Woolf's Three Guineas," Signs 28.2 (2003): стр. 645-663; и Lili Hsieh, "The Other Side of the Picture: The Politics of Affect in Virginia Woolf's Three Guineas," Journal of Narrative Theory 36, no. 1 (Winter 2006): стр. 20-52.
7 — Sontag, стр. 9-10.
8 — Elena Gualtieri, "Three Guineas and the Photograph: The Art of Propaganda," Women Writers of the 1930s: Gender, Politics, and History, ред. Maroula Joannou (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1998), стр. 168. Эмили Далгарно приходит к тому же выводу и считает, что испанские фотографии изображают высокую смертность гражданского населения во время войны. См. Dalgarno, стр. 172.
9 — Sontag, стр. 6.
10 — Guailtieri, "Three Guineas and the Photograph," стр. 170.
7 — Sontag, стр. 9-10.
8 — Elena Gualtieri, "Three Guineas and the Photograph: The Art of Propaganda," Women Writers of the 1930s: Gender, Politics, and History, ред. Maroula Joannou (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1998), стр. 168. Эмили Далгарно приходит к тому же выводу и считает, что испанские фотографии изображают высокую смертность гражданского населения во время войны. См. Dalgarno, стр. 172.
9 — Sontag, стр. 6.
10 — Guailtieri, "Three Guineas and the Photograph," стр. 170.
11 — Julia Duffy and Lloyd Davis, 128-40; и Alice Staveley, "Name That Face," Virginia Woolf Miscellany 51 (Spring 1998): стр. 4-5.
12 — Garratt & Atkinson to the Hogarth Press, 3 марта 1938 г. Hogarth Press Archives 571, Special Collections, University of Reading, Reading, UK.
13 — Virginia Woolf, "Women Must Weep" и "Women Must Weep—Or Unite Against War," The Atlantic Monthly (май и июнь 1938 г.).
14 — Далгарно пишет: «По сути она разрушает связь изображения с текстом, когда представляет институты не как генералов, судей и профессоров, а как декорации и костюмы. А вот ненапечатанные военные фотографии — это фотографии людей без институциональных одежд, тела которых идеология регулярно скрывает из виду» (171). Эми М. Лилли отмечает, что в 1935 году Вулф принимала участие в антифашистской выставке в Кэмбридже, состоявшей из документальных и исторических фотографий, вырезок из новостных газет и графиков, отражающих рост фашизма. Узнав, что на выставке никак не будет представлен «женский вопрос», Вулф написала организатору письмо. См. "Three Guineas, Two Exhibits: Woolf's Politics of Display," Woolf Studies Annual 9 (2003): стр. 29-54.
15 — Gualtieri, "The Cut", стр. 17.
16 — Virginia Woolf, Diary Vol. 5, стр. 39.
17 — Формальные стратегии Вулф проявляют эти негативные принципы, несмотря на такие публикации, как, например, статья Элейн Шоуолтер, которая пишет, что «Три гинеи» отличаются «нарративными стратегиями» и «напряженным очарованием». Торил Мой объявляет эту позицию «реалистичным» критицизмом: «Шоуолтер, таким образом, косвенно определяет действительно феминистическое произведение как работу, демонстрирующую яркое описание личных впечатлений в социальной структуре…
12 — Garratt & Atkinson to the Hogarth Press, 3 марта 1938 г. Hogarth Press Archives 571, Special Collections, University of Reading, Reading, UK.
13 — Virginia Woolf, "Women Must Weep" и "Women Must Weep—Or Unite Against War," The Atlantic Monthly (май и июнь 1938 г.).
14 — Далгарно пишет: «По сути она разрушает связь изображения с текстом, когда представляет институты не как генералов, судей и профессоров, а как декорации и костюмы. А вот ненапечатанные военные фотографии — это фотографии людей без институциональных одежд, тела которых идеология регулярно скрывает из виду» (171). Эми М. Лилли отмечает, что в 1935 году Вулф принимала участие в антифашистской выставке в Кэмбридже, состоявшей из документальных и исторических фотографий, вырезок из новостных газет и графиков, отражающих рост фашизма. Узнав, что на выставке никак не будет представлен «женский вопрос», Вулф написала организатору письмо. См. "Three Guineas, Two Exhibits: Woolf's Politics of Display," Woolf Studies Annual 9 (2003): стр. 29-54.
15 — Gualtieri, "The Cut", стр. 17.
16 — Virginia Woolf, Diary Vol. 5, стр. 39.
17 — Формальные стратегии Вулф проявляют эти негативные принципы, несмотря на такие публикации, как, например, статья Элейн Шоуолтер, которая пишет, что «Три гинеи» отличаются «нарративными стратегиями» и «напряженным очарованием». Торил Мой объявляет эту позицию «реалистичным» критицизмом: «Шоуолтер, таким образом, косвенно определяет действительно феминистическое произведение как работу, демонстрирующую яркое описание личных впечатлений в социальной структуре…
В этом отношении Шоуолтер активно подчеркивает форму письма, известную как критический или буржуазный реализм, не признавая, таким образом, ценность модернизма Вирджинии Вулф» или ее формальной игры. См. Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (New York: Methuen, 1985), стр. 282-285, 294.
18 — У. Дж. Т. Митчелл утверждает, что «экфрастическая поэзия — это жанр, в котором текст встречает собственных семиотических "других", противоборствующие, чужие режимы выражения, называемые визуальным, графическим, пластическим или "пространственным" искусством». W.J.T. Mitchell, Picture Theory (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1994), стр. 156.
19 — Все фотографии, опубликованные Вулф в «Орландо», «Флаше» и «Трех гинеях» (но не в «Роджере Фрае») в основном представляют собой базовые изображение человека, несмотря на постановку, позы и костюмы.
20 — Он пишет: «Действительно, эту книгу можно считать иллюстрацией… Я уверен, что эти базовые мотивы в истории изображения реальности (конечно, если я их правильно понял) должны быть очевидны в любом реалистичном тексте». Erich Auerbach, Mimesis: The Representation Of Reality In Western Literature, перев., Willard R. Trask (Princeton: Princeton Univ. Press, 2003), стр. 548.
21 — Там же, стр. 540.
22 — Там же, стр. 538.
23 — Там же, стр. 541.
24 — Там же, стр. 547. Дополнительно см. Maria DiBattista, "The World Writer," in Imagining Virginia Woolf: An Experiment in Critical Biography (Princeton: Princeton Univ. Press, 2009), стр. 129.
25 — Там же, стр. 553.
26 — Там же, стр. 552.
18 — У. Дж. Т. Митчелл утверждает, что «экфрастическая поэзия — это жанр, в котором текст встречает собственных семиотических "других", противоборствующие, чужие режимы выражения, называемые визуальным, графическим, пластическим или "пространственным" искусством». W.J.T. Mitchell, Picture Theory (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1994), стр. 156.
19 — Все фотографии, опубликованные Вулф в «Орландо», «Флаше» и «Трех гинеях» (но не в «Роджере Фрае») в основном представляют собой базовые изображение человека, несмотря на постановку, позы и костюмы.
20 — Он пишет: «Действительно, эту книгу можно считать иллюстрацией… Я уверен, что эти базовые мотивы в истории изображения реальности (конечно, если я их правильно понял) должны быть очевидны в любом реалистичном тексте». Erich Auerbach, Mimesis: The Representation Of Reality In Western Literature, перев., Willard R. Trask (Princeton: Princeton Univ. Press, 2003), стр. 548.
21 — Там же, стр. 540.
22 — Там же, стр. 538.
23 — Там же, стр. 541.
24 — Там же, стр. 547. Дополнительно см. Maria DiBattista, "The World Writer," in Imagining Virginia Woolf: An Experiment in Critical Biography (Princeton: Princeton Univ. Press, 2009), стр. 129.
25 — Там же, стр. 553.
26 — Там же, стр. 552.
Благодарим автора материала Эмили Хайд за предоставленную возможность опубликовать фрагмент работы и Викторию Левицкую за перевод.
Все права защищены.
Все права защищены.

