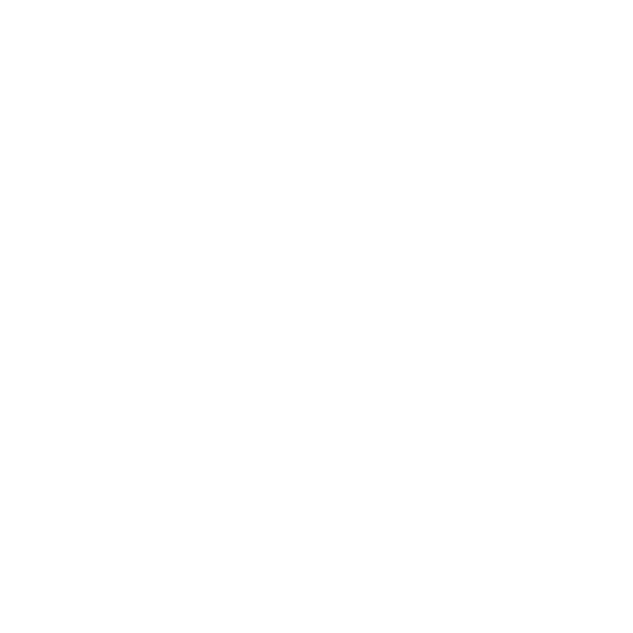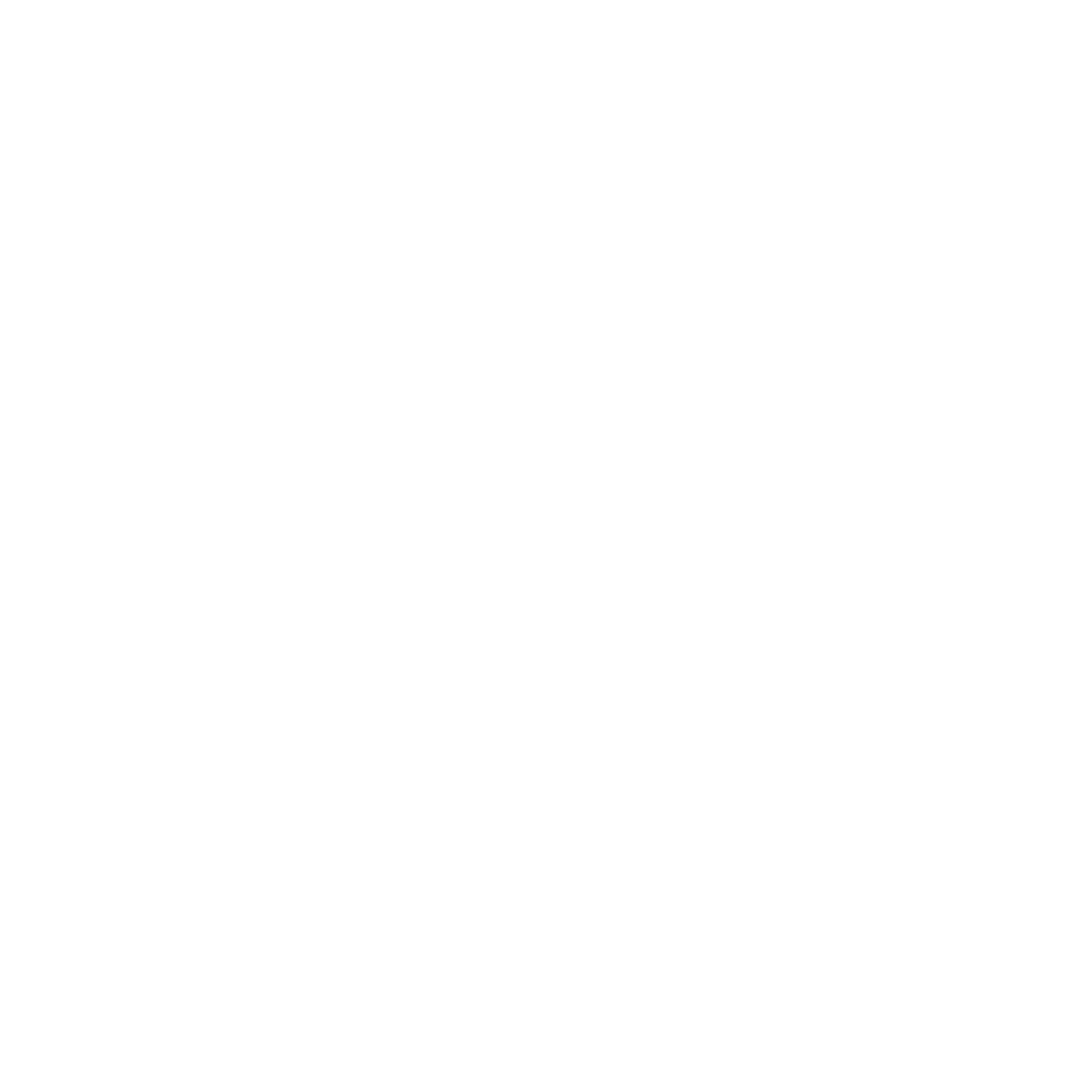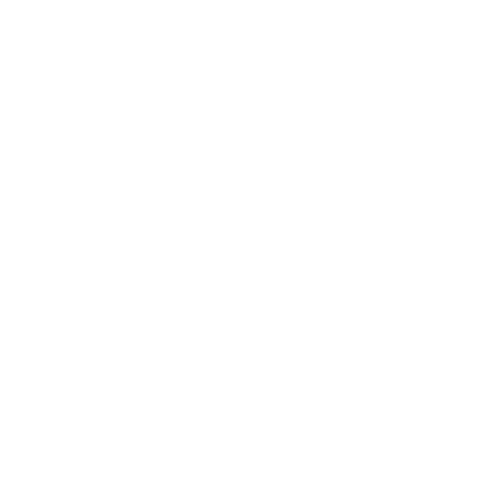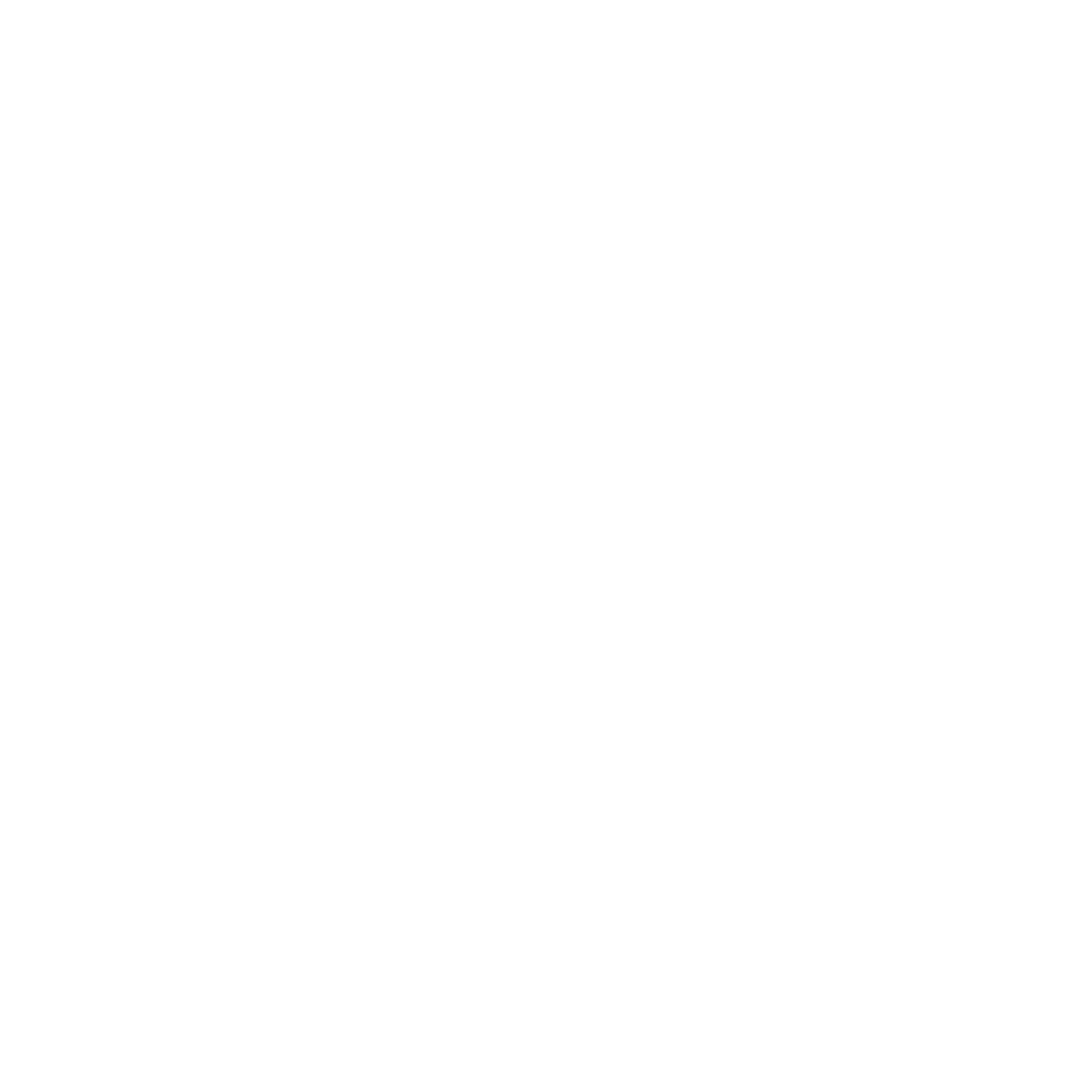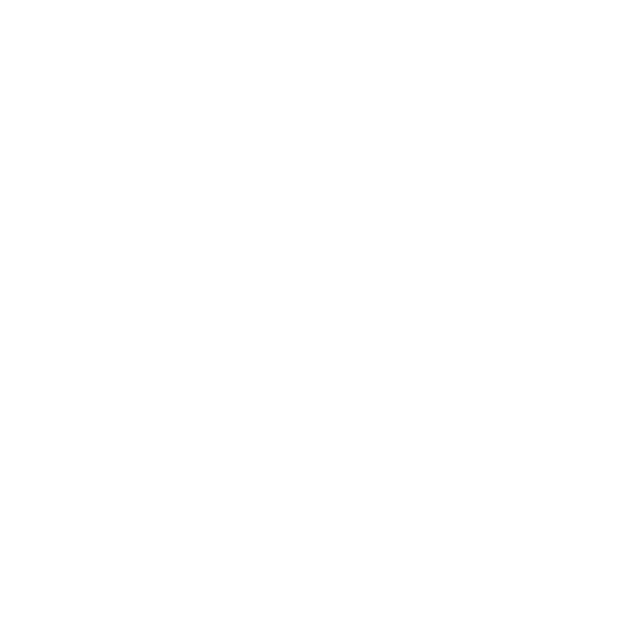ПРАКТИКА
Бережное преподавание
Дискуссия о том, как преподавателю в художественной сфере сберечь себя и студентов
На обложке: Учебное пространство Простой школы.
Фото: Никита Никитин
Фото: Никита Никитин
Участники дискуссии:
Дмитрий Горелышев, художник-график, художественный руководитель «Простой школы». Автор книги «Простое рисование». Преподаватель МГХПА им. Строганова и Британской высшей школы дизайна.
Яна Гнеденко, клинический психолог, проводит индивидуальное психологическое консультирование; КПТ-терапевт, терапевт искусством, нарративный практик; сотрудник Центра лечебной педагогики «Особое детство».
Ольга Герасименко, клинический психолог, психотерапевт, организационный психолог и преподаватель. Сфера научных интересов сфокусирована на психологии творчества и творческом потенциале. Окончила МГУ в областях востоковедения и психологии, докторантуру по клинической психологии в The Wright Institute, Беркли, Калифорния.
Модератор:
Ксения Копалова, иллюстратор, преподаватель иллюстрации в Школе дизайна НИУ ВШЭ, преподаватель Critical and Contextual Studies в Британской высшей школе дизайна.
Дмитрий Горелышев, художник-график, художественный руководитель «Простой школы». Автор книги «Простое рисование». Преподаватель МГХПА им. Строганова и Британской высшей школы дизайна.
Яна Гнеденко, клинический психолог, проводит индивидуальное психологическое консультирование; КПТ-терапевт, терапевт искусством, нарративный практик; сотрудник Центра лечебной педагогики «Особое детство».
Ольга Герасименко, клинический психолог, психотерапевт, организационный психолог и преподаватель. Сфера научных интересов сфокусирована на психологии творчества и творческом потенциале. Окончила МГУ в областях востоковедения и психологии, докторантуру по клинической психологии в The Wright Institute, Беркли, Калифорния.
Модератор:
Ксения Копалова, иллюстратор, преподаватель иллюстрации в Школе дизайна НИУ ВШЭ, преподаватель Critical and Contextual Studies в Британской высшей школе дизайна.
В художественном образовании методы преподавания очень зависят от среды. Какие среды, на ваш взгляд, поощряют более бережное преподавание, а какие — более жесткое, и почему?
Дима Горелышев: Я преподаю в трех местах, поэтому мне удобно сравнивать: это академический рисунок у нескольких курсов и иллюстрация на графдизайне в Строгановке; Простая школа — место, сделанное своими руками и то, каким хочется видеть преподавание; и БВШД, курсы сценографии и иллюстрации. Строгановка в этом смысле — самая жесткая система: даже не в смысле обращения со студентами, а в плане невнимательности к процессу. Там есть план и поток, программа, которой часто много лет, и по которой вынуждены идти преподаватели. И дело не в том, что преподаватели не предоставляют индивидуального подхода или не всегда знают, что студенту сказать (такая проблема тоже есть). Что точно является основой этой жесткости — так это аксиома, что, если ты не убился перед просмотром и перед просмотром спал, то ты плохо поработал. Сейчас это постепенно меняется, потому что сами ребята, которые приходят учиться, сейчас совсем другие: они совсем иначе себя ценят и иначе думают.
Дима Горелышев: Я преподаю в трех местах, поэтому мне удобно сравнивать: это академический рисунок у нескольких курсов и иллюстрация на графдизайне в Строгановке; Простая школа — место, сделанное своими руками и то, каким хочется видеть преподавание; и БВШД, курсы сценографии и иллюстрации. Строгановка в этом смысле — самая жесткая система: даже не в смысле обращения со студентами, а в плане невнимательности к процессу. Там есть план и поток, программа, которой часто много лет, и по которой вынуждены идти преподаватели. И дело не в том, что преподаватели не предоставляют индивидуального подхода или не всегда знают, что студенту сказать (такая проблема тоже есть). Что точно является основой этой жесткости — так это аксиома, что, если ты не убился перед просмотром и перед просмотром спал, то ты плохо поработал. Сейчас это постепенно меняется, потому что сами ребята, которые приходят учиться, сейчас совсем другие: они совсем иначе себя ценят и иначе думают.
Помню по себе, что у нас это было нормой: я ночевал в Строгановке много раз, перед просмотром не спал три дня подряд, и в какой-то момент мне это казалось нормальным: я же должен сделать хорошо! А зачастую это было не про «хорошо», а про «трудно». Ты должен сделать «трудно».
Иногда преподаватель мог попросить что-то исправить или не одобрить работу в последний момент именно затем, чтобы студент таки «убился». Нагрузки ради нагрузки много до сих пор. Если голова у человека работает быстро — почему бы не дать ему и проект свой сделать быстро? Если человек опережает план — классно же, пусть возьмет вторую задачу, или устроит коллаборацию с коллегами. Но это случается редко.
Я умею преподавать мягко, но иногда сталкиваюсь с тем, что сам студент к нему оказывается не готов, и просит его «поругать»: у него есть представление о том, что образование — это жесткая система. Некоторым сложно принять предложение мягкости.
В Простой школе и Британке все гораздо пластичнее, поскольку и ребята приходят уже взрослые, и каждый курс может чуть-чуть меняться. Я сейчас каждый курс делаю немного по-другому, даже если он сто раз уже отработан, поскольку мне будет так комфортнее и интереснее: подстраиваю его под конкретную задачу и аудиторию. И в этом смысле атмосфера школы — то есть не только мое личное желание привнести мягкое преподавание — очень помогает. В Строгановке иногда даже само место для работы не оборудовано: может быть грязно, может не хватать инструментов. Для тех, кто не видел других мастерских, это становится нормой и плохой привычкой.
Я умею преподавать мягко, но иногда сталкиваюсь с тем, что сам студент к нему оказывается не готов, и просит его «поругать»: у него есть представление о том, что образование — это жесткая система. Некоторым сложно принять предложение мягкости.
В Простой школе и Британке все гораздо пластичнее, поскольку и ребята приходят уже взрослые, и каждый курс может чуть-чуть меняться. Я сейчас каждый курс делаю немного по-другому, даже если он сто раз уже отработан, поскольку мне будет так комфортнее и интереснее: подстраиваю его под конкретную задачу и аудиторию. И в этом смысле атмосфера школы — то есть не только мое личное желание привнести мягкое преподавание — очень помогает. В Строгановке иногда даже само место для работы не оборудовано: может быть грязно, может не хватать инструментов. Для тех, кто не видел других мастерских, это становится нормой и плохой привычкой.
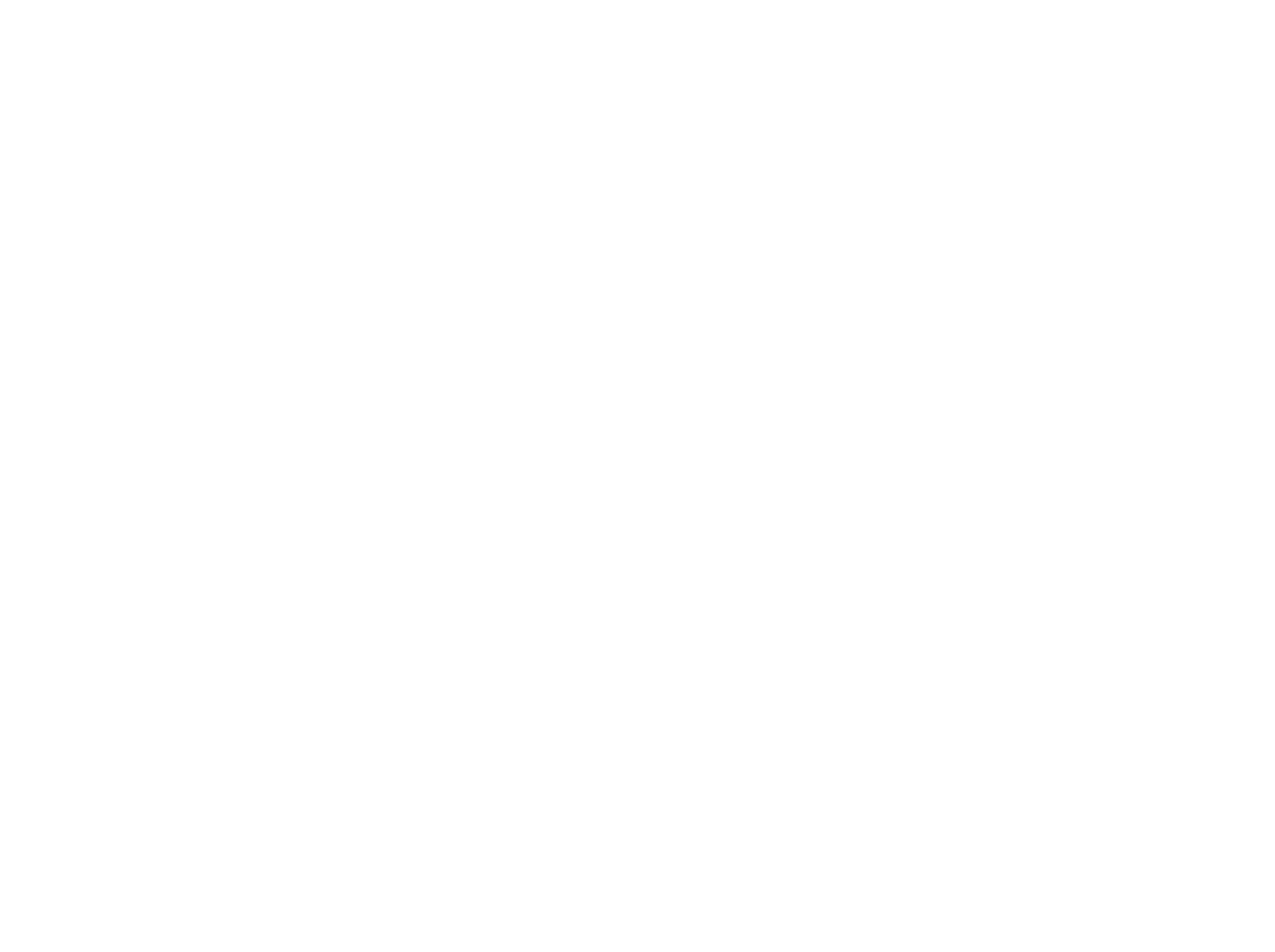
Учебное пространство Простой школы.
Фото Инны Никитиной.
Фото Инны Никитиной.
Яна Гнеденко: У меня очень отзывается то, что говорил Дима, хотя я не очень много знаю о художественном образовании. В образовании психологическом, если это государственная программа, всё прописано довольно жестко: преподавателей просят изначально прислать программу, согласовать её и пройти множество шагов к тому, чтобы она была утверждена. Для меня уже это лишает процесс мягкости. Если это частное образование, например, психотерапевтическое, то в нем намного больше гибкости и мягкости: например, если в процессе обучения кому-то стало плохо, можно целый день посвятить разбору того, что произошло, а в государственной системе такое часто невозможно. Когда значительная часть нагрузки связана с бюрократией и отчетностью, у преподавателя нет возможности эмоционально включиться. Кроме того, в государственной системе низкие зарплаты, поэтому там часто возникают ситуации выгорания. В такой системе людям приходится заниматься одновременно кучей разных вопросов и нет возможности погрузиться в одну задачу — отсюда меньше заинтересованности и вовлеченности.
Ольга Герасименко: Для меня, наверное, в вопросе о жесткости/мягкости проблема в самой его постановке: преподавание — не такой простой и однозначный процесс: его нельзя расположить на одной шкале от более гибкого к менее гибкому. Понятно, что личностно один преподаватель может быть более склонен к гибкости, принятию и компромиссу, а другой — к четкости и требовательности. Но роль преподавателя в любом случае предполагает вариативность, то есть способность включать в процесс и чуткость к студентам, и способность удерживать структуру, рамки и транслировать требования программы. Эти вещи неразрывно связаны, они существуют одновременно. Что именно и в какой момент я как преподаватель буду транслировать — это всегда сознательный выбор: в этом и сложность преподавательской роли, поскольку иногда преподавателю приходится быть таким, каким ему, возможно, быть не нравится.
Ольга Герасименко: Для меня, наверное, в вопросе о жесткости/мягкости проблема в самой его постановке: преподавание — не такой простой и однозначный процесс: его нельзя расположить на одной шкале от более гибкого к менее гибкому. Понятно, что личностно один преподаватель может быть более склонен к гибкости, принятию и компромиссу, а другой — к четкости и требовательности. Но роль преподавателя в любом случае предполагает вариативность, то есть способность включать в процесс и чуткость к студентам, и способность удерживать структуру, рамки и транслировать требования программы. Эти вещи неразрывно связаны, они существуют одновременно. Что именно и в какой момент я как преподаватель буду транслировать — это всегда сознательный выбор: в этом и сложность преподавательской роли, поскольку иногда преподавателю приходится быть таким, каким ему, возможно, быть не нравится.
Тем не менее, есть условия, которые способствуют тому, чтобы какие-то из личностных качеств преподавателей проявлялись ярче. Например, бюрократия не сильно способствует проявлению внимательности и бережности.
Дима, как обстоят дела в Строгановке в этом смысле? Там больше бумажной работы, чем в других местах?
Дима Горелышев: Больше, чем в других местах, где я веду, потому что в Простой школе и Британке у меня её просто нет. В Британке в последние годы это просто устная договоренность с куратором: «Ну что, погнали? —Погнали». Там — абсолютное доверие, поэтому у меня есть возможность что-то менять прямо на ходу: например, у сценографов после лекции предложил практическую часть, которую придумал прямо на лекции. В случае государственных художественных школ это невозможная ситуация: там есть длительная программа и отчетность по ней, и менять там что-то возможно разве что в гомеопатических дозах.
В Строгановке есть отчетность и индивидуальный план (то есть то, что преподаватель собирается сделать: написать методичку, организовать выставку, мастер-класс и т.д.), но этого не так много, и всё это довольно мягко: может быть, преподавателей жалеют, может, эта работа больше ложится на заведующих кафедр и деканов. В этом плане у меня нет претензий к системе: все сделано так, чтобы не мешать нам работать.
И еще одно дополнение: у меня есть группа, в которой я веду одновременно иллюстрацию и академический рисунок. Эти ребята знают, что я могу и про иллюстрацию рассказать, и про колено у гипсового Апоксиомена. Так вот, такая многосторонняя работа как будто вызывает у студентов больше доверия. У меня был обратный пример, когда мне довелось заменить одно из финальных занятий по академическому рисунку в группе, у которой я вел иллюстрацию. Иллюстрация у них получалась очень лихо и здорово, а на рисунке, так как вел его обычно другой преподаватель с совсем другими интересами, я видел, что ребятам не очень интересно: как будто это были совсем не те люди, которые ходили ко мне на иллюстрацию. Работы получились очень низкого уровня. Тогда я подумал, что очень важен контакт с преподавателем и то, насколько студентам с ним интересно.
Дима, как обстоят дела в Строгановке в этом смысле? Там больше бумажной работы, чем в других местах?
Дима Горелышев: Больше, чем в других местах, где я веду, потому что в Простой школе и Британке у меня её просто нет. В Британке в последние годы это просто устная договоренность с куратором: «Ну что, погнали? —Погнали». Там — абсолютное доверие, поэтому у меня есть возможность что-то менять прямо на ходу: например, у сценографов после лекции предложил практическую часть, которую придумал прямо на лекции. В случае государственных художественных школ это невозможная ситуация: там есть длительная программа и отчетность по ней, и менять там что-то возможно разве что в гомеопатических дозах.
В Строгановке есть отчетность и индивидуальный план (то есть то, что преподаватель собирается сделать: написать методичку, организовать выставку, мастер-класс и т.д.), но этого не так много, и всё это довольно мягко: может быть, преподавателей жалеют, может, эта работа больше ложится на заведующих кафедр и деканов. В этом плане у меня нет претензий к системе: все сделано так, чтобы не мешать нам работать.
И еще одно дополнение: у меня есть группа, в которой я веду одновременно иллюстрацию и академический рисунок. Эти ребята знают, что я могу и про иллюстрацию рассказать, и про колено у гипсового Апоксиомена. Так вот, такая многосторонняя работа как будто вызывает у студентов больше доверия. У меня был обратный пример, когда мне довелось заменить одно из финальных занятий по академическому рисунку в группе, у которой я вел иллюстрацию. Иллюстрация у них получалась очень лихо и здорово, а на рисунке, так как вел его обычно другой преподаватель с совсем другими интересами, я видел, что ребятам не очень интересно: как будто это были совсем не те люди, которые ходили ко мне на иллюстрацию. Работы получились очень низкого уровня. Тогда я подумал, что очень важен контакт с преподавателем и то, насколько студентам с ним интересно.
А что делать, если студентам неинтересно? Как такие ситуации разрешать бережно и для них, и для себя? Как, например, давать сложный материал так, чтобы не отпугнуть?
Яна Гнеденко: У меня был такой случай. Я проводила тренинг для учителей по ненасильственной коммуникации. Вообще-то им это изначально было интересно, и именно на это у них был запрос. Ненасильственная коммуникация — это сложная система, и одним из важных навыков в её усвоении является способность отслеживать то, что с тобой происходит — то, что сейчас часто называют mindfulness. Я думаю, что многим сегодня уже наскучило это слово, и поэтому тяжело включаться в разговор об этой теме. В этой группе получилось как раз так, что изначально интерес был, но конкретно эта тема не вызвала отклика. Тогда я напрямую поговорила об этом со слушателями: сказала, что вижу, что они не очень заинтересованы, и спросила, почему так. Тогда они сказали, что материал кажется неприменимым к жизни, и я попробовала привести какие-то наглядные примеры. Мне кажется, прямой и честный вопрос к людям о том, что с ними сейчас происходит — это хороший метод справиться с отсутствием интереса, так же, как попытка показать людям, зачем им это нужно. А что касается сложного материала — его, наверное, нужно делить на маленькие части.
Дима Горелышев: Если студенту неинтересно, то я всегда допускаю, что конкретно этому человеку просто неинтересна та сфера, в которой мы работаем — я такого видел довольно много за эти годы. В группе такой человек всегда есть. В Строгановке это часто встречается: кто-то не по своей воле пошел учиться, кто-то еще не понял, зачем он это делает (может, еще потом поймет) — это обычное дело. В Британке и Вышке такого, пожалуй, поменьше, потому что туда люди чаще идут за свои деньги. В Простой школе участники групп и курсов точно заинтересованы: это непростая работа, на которую все идут по своей воле и с конкретными целями.
Но вместе с тем бывают ситуации, когда группа проседает, теряется, ей становится скучно — тут у меня есть ряд приемов. Первый прием — отсекать момент, когда ты говоришь слишком долго. Если тебе интересно и тебя «понесло», это не значит, что остальным будет интересно. Сейчас я всегда параллельно стараюсь следить за тем, не слишком ли много меня в занятии. Второй момент — это темп. Я замечаю, что ребята уходят с занятия бодрыми и не уставшими, когда я поддерживаю темп занятия и, может, даже иногда усиливаю, когда он начинает проседать. В этом смысле хорошо работает объединение вокруг одной новой задачи: например, все работали индивидуально, а потом я говорю: ребят, что скажете по поводу Х? Что посоветуете коллеге? Это всех пробуждает, отдельные художники снова становятся группой. С этой же целью мы много лет назад уже поменяли формат просмотра в конце занятия: мы не разбираем каждую работу отдельно, а просим обратную связь от студентов. Единственное, что я делаю сейчас на просмотре, это задаю вопросы. Раньше замечал, что на просмотрах и я сильно уставал, и студенты выходили мертвые: ты уже выложился, а тут еще надо столько всего выслушать и высказать самому. А сейчас у нас просмотр занимает 5-10 минут и представляет, по сути, живой диалог, как пинг-понг. Тогда получается, что занятие заканчивается на чем-то бодром, веселом и темповом: выходишь не уставшим, а на подъеме. Мне вообще кажется, что очень важно то, как ты заканчиваешь — и как начинаешь — занятие. Если занятие закончилось бодро, то потом и преподаватель, и ученик еще час-два в себе этот хороший заряд чувствуют, и в следующий раз с этим же хорошим послевкусием возвращаются на занятие.
Ольга Герасименко: В американском образовании одна из превентивных мер в борьбе с тем, что студентам может быть неинтересно и непонятно, состоит в том, чтобы рассылать студентам до начала занятий программу курса: с датами, темами, заданиями и дополнительными источниками. Тогда студент может сориентироваться и понять, чего ему ждать. Например, если он видит, что тема совсем незнакомая, предполагается, что он за неделю что-то почитает и придет на лекцию уже зная, о чем будет разговор. Это уже повышает включенность и заинтересованность. Плюс каждый студент в этой системе знает, что преподаватель обращает внимание на то, как студенты вкладываются на занятиях — то есть это система взаимного оценивания.
Яна Гнеденко: У меня был такой случай. Я проводила тренинг для учителей по ненасильственной коммуникации. Вообще-то им это изначально было интересно, и именно на это у них был запрос. Ненасильственная коммуникация — это сложная система, и одним из важных навыков в её усвоении является способность отслеживать то, что с тобой происходит — то, что сейчас часто называют mindfulness. Я думаю, что многим сегодня уже наскучило это слово, и поэтому тяжело включаться в разговор об этой теме. В этой группе получилось как раз так, что изначально интерес был, но конкретно эта тема не вызвала отклика. Тогда я напрямую поговорила об этом со слушателями: сказала, что вижу, что они не очень заинтересованы, и спросила, почему так. Тогда они сказали, что материал кажется неприменимым к жизни, и я попробовала привести какие-то наглядные примеры. Мне кажется, прямой и честный вопрос к людям о том, что с ними сейчас происходит — это хороший метод справиться с отсутствием интереса, так же, как попытка показать людям, зачем им это нужно. А что касается сложного материала — его, наверное, нужно делить на маленькие части.
Дима Горелышев: Если студенту неинтересно, то я всегда допускаю, что конкретно этому человеку просто неинтересна та сфера, в которой мы работаем — я такого видел довольно много за эти годы. В группе такой человек всегда есть. В Строгановке это часто встречается: кто-то не по своей воле пошел учиться, кто-то еще не понял, зачем он это делает (может, еще потом поймет) — это обычное дело. В Британке и Вышке такого, пожалуй, поменьше, потому что туда люди чаще идут за свои деньги. В Простой школе участники групп и курсов точно заинтересованы: это непростая работа, на которую все идут по своей воле и с конкретными целями.
Но вместе с тем бывают ситуации, когда группа проседает, теряется, ей становится скучно — тут у меня есть ряд приемов. Первый прием — отсекать момент, когда ты говоришь слишком долго. Если тебе интересно и тебя «понесло», это не значит, что остальным будет интересно. Сейчас я всегда параллельно стараюсь следить за тем, не слишком ли много меня в занятии. Второй момент — это темп. Я замечаю, что ребята уходят с занятия бодрыми и не уставшими, когда я поддерживаю темп занятия и, может, даже иногда усиливаю, когда он начинает проседать. В этом смысле хорошо работает объединение вокруг одной новой задачи: например, все работали индивидуально, а потом я говорю: ребят, что скажете по поводу Х? Что посоветуете коллеге? Это всех пробуждает, отдельные художники снова становятся группой. С этой же целью мы много лет назад уже поменяли формат просмотра в конце занятия: мы не разбираем каждую работу отдельно, а просим обратную связь от студентов. Единственное, что я делаю сейчас на просмотре, это задаю вопросы. Раньше замечал, что на просмотрах и я сильно уставал, и студенты выходили мертвые: ты уже выложился, а тут еще надо столько всего выслушать и высказать самому. А сейчас у нас просмотр занимает 5-10 минут и представляет, по сути, живой диалог, как пинг-понг. Тогда получается, что занятие заканчивается на чем-то бодром, веселом и темповом: выходишь не уставшим, а на подъеме. Мне вообще кажется, что очень важно то, как ты заканчиваешь — и как начинаешь — занятие. Если занятие закончилось бодро, то потом и преподаватель, и ученик еще час-два в себе этот хороший заряд чувствуют, и в следующий раз с этим же хорошим послевкусием возвращаются на занятие.
Ольга Герасименко: В американском образовании одна из превентивных мер в борьбе с тем, что студентам может быть неинтересно и непонятно, состоит в том, чтобы рассылать студентам до начала занятий программу курса: с датами, темами, заданиями и дополнительными источниками. Тогда студент может сориентироваться и понять, чего ему ждать. Например, если он видит, что тема совсем незнакомая, предполагается, что он за неделю что-то почитает и придет на лекцию уже зная, о чем будет разговор. Это уже повышает включенность и заинтересованность. Плюс каждый студент в этой системе знает, что преподаватель обращает внимание на то, как студенты вкладываются на занятиях — то есть это система взаимного оценивания.
Наверное, американскую систему можно назвать жесткой, но она снимает неопределенность: в ней невозможна модель, при которой преподаватель, как эдакий талантливый актер, должен захватить и включить аудиторию, которая только пассивно сидит и смотрит его «шоу».
В теории звучит отлично, но на практике преподавателю бывает очень тяжело понимать, что слушателям неинтересно: возникают сомнения в собственной компетентности и в том, что вообще имеешь право делать то, что делаешь. И так непростая работа усложняется еще и такими сомнениями. Как справляться в такой ситуации?
Дима Горелышев: Если дело касается недостатка информации в чем-либо — мне кажется эффективным честно сказать об этом. Например: ребят, я не знаю, как работает матричный принтер, не могу помочь. Еще можно дать ссылку, направить человека туда, где он может получить эти знания, или просто предложить поискать эту информацию самостоятельно.
Дима Горелышев: Если дело касается недостатка информации в чем-либо — мне кажется эффективным честно сказать об этом. Например: ребят, я не знаю, как работает матричный принтер, не могу помочь. Еще можно дать ссылку, направить человека туда, где он может получить эти знания, или просто предложить поискать эту информацию самостоятельно.

Учебное пространство в МГХПА им. Строганова.
Фото: Дмитрий Горелышев.
Фото: Дмитрий Горелышев.
Яна Гнеденко: Тут у меня два соображения: свое и «книжное». Свое заключается в том, что у каждого бывают сомнения в себе, и это нормально. У психологов есть супервизия, то есть другой психолог, которому можно сказать: «Кажется, у меня все пошло не так, и я не знаю, как с этим справиться, помоги, пожалуйста». Не знаю, насколько это работает в других областях, но в педагогике есть педсоветы, где поднимаются в том числе и такие вопросы. Поддержка других людей очень включает.
Более «книжный» ответ — как раз из ненасильственной коммуникации. Маршалл Розенберг писал о том, как он начал преподавать в школе для подростков с поведенческими особенностями и проблемами. Это было в те времена, когда в США еще сильнее был расовый раскол. Розенберг был белым человеком, а его ученики — часто чернокожими подростками, которых отправили в специальный класс из-за того, что они вели себя агрессивно. Он входил в класс и чувствовал, что к нему относятся с неприязнью, что ученикам неинтересно, и, когда он пытается объяснить, как себя вести, они его не слушают. В какой-то момент один из подростков ему сказал: «Вы нам тут рассказываете, как надо жить, потому что вы — белый, а мы — черные». И тогда он ответил, что очень рад тому, что ему это сказали: «Я все это время был уверен, что мне не удается ничего донести, потому что вам ничего не интересно. Я от этого себя чувствую очень неуверенно, и от неуверенности начинаю пытаться объяснить, как себя вести. Это потому, что я хочу, чтобы мы смогли с вами вместе работать».
Более «книжный» ответ — как раз из ненасильственной коммуникации. Маршалл Розенберг писал о том, как он начал преподавать в школе для подростков с поведенческими особенностями и проблемами. Это было в те времена, когда в США еще сильнее был расовый раскол. Розенберг был белым человеком, а его ученики — часто чернокожими подростками, которых отправили в специальный класс из-за того, что они вели себя агрессивно. Он входил в класс и чувствовал, что к нему относятся с неприязнью, что ученикам неинтересно, и, когда он пытается объяснить, как себя вести, они его не слушают. В какой-то момент один из подростков ему сказал: «Вы нам тут рассказываете, как надо жить, потому что вы — белый, а мы — черные». И тогда он ответил, что очень рад тому, что ему это сказали: «Я все это время был уверен, что мне не удается ничего донести, потому что вам ничего не интересно. Я от этого себя чувствую очень неуверенно, и от неуверенности начинаю пытаться объяснить, как себя вести. Это потому, что я хочу, чтобы мы смогли с вами вместе работать».
Вывод из этой истории — про то, что иногда стоит признать свои чувства и внести их в общее поле: например, насколько ты боишься класс или насколько злишься на класс. Если ты это признаешь, то обычно есть диалог и контакт. В контакте уже можно решать вопросы, в том числе про сложность материала или отсутствие интереса.
Ольга Герасименко: Здесь играет роль системный и институциональный контекст. Если учебное заведение обладает определенной культурой взаимодействия между студентом и преподавателем, если в ней действуют договоренности о поведении в аудитории, принципах коммуникации, то ситуацию разрешить проще. Если студенты набираются без учета личностных характеристик (а в России я не знаю ни одного вуза, где бы это делали) и без учета того, насколько человек впишется в среду, то с этим сложнее.
В США, например, в частных школах и вузах один из компонентов поступления — интервью с кем-то из профессоров, носителей культуры вуза. По итогам этого интервью можно не пройти по личностным качествам.
Наверное, ко всем студентам вузов есть схожие требования: вдумчивость, самостоятельность, инициативность, желание учиться. Но могут быть и специфические ожидания в зависимости от культуры того или иного вуза, и, к тому же, они могут варьироваться от года к году: например, в этом году нужны более активные люди, которые склонны к смелым самостоятельным заявлениям, а в следующем — более гибкие и компромиссные. Но в любом случае в американской системе смотрят на то, насколько человек умеет общаться, находить общий язык и доносить свои мысли в корректной форме. Если видно, что человек склонен к конфликтности и деструктивности, то он изначально может не пройти в вуз.
Кроме того, внутри вуза есть своя система компетенций, которая подразумевает, что оценка складывается в том числе из того, насколько студент активен на занятиях, насколько он вносит вклад в общую дискуссию, ясно ли выражает свои мысли (как письменно, так и устно), насколько профессионально его поведение и корректно ли взаимодействие с одногруппниками и преподавателями, насколько своевременно он сдает работы и т.д. При этом такая система оценки применяется не только к студентам преподавателями, но и студентами к преподавателям.
На британских программах в БВШД тоже есть такие формально прописанные критерии (например, способность воспринимать критику), но разница в том, как они оцениваются на деле: сложно представить, чтобы кто-то получил «неуд» за то, что на занятиях хамит. Критерий есть, но по факту в представление о профессиональных компетенциях входят прежде всего практические навыки, а soft skills на деле не особенно оцениваются.
Ольга Герасименко: В моем опыте тоже нет примеров отчислений за хамство, но я точно знаю, что человеку пришлось бы объясняться в таких случаях, и с ним бы отдельно разговаривали. Не могу представить себе ситуацию, в которой человек отстаивает свое право на хамство, когда ему отовсюду — от профессора, куратора, декана — поступает многоуровневая обратная связь о том, что так делать не надо. Люди платят за свое образование довольно большие деньги, и мне сложно представить, чтобы они платили их за то, чтобы находиться в ситуации, когда им отовсюду говорят, что они не правы. Скорее такой человек унесет свои деньги и уйдет из вуза, в котором к нему предъявляют требования, несовместимые с его ценностями.
В целом если брать ситуацию в США, то здесь довольно сложно пронести некорректное поведение вплоть до вуза, поскольку еще с детства и со школы начинают действовать эти правила относительно того, как себя вести. Поэтому собеседование в вуз во многом похоже на собеседование на работу.
Довольно жесткая система.
Ольга Герасименко: Да, и это то, что может не нравиться людям из России. На этом месте часто возникают спекуляции на тему американского «лицемерия», но по факту жесткие правила относительно экологичности общения часто позволяют добраться до тех вопросов, до которых в российской системе дело просто не доходит.
Кроме того, внутри вуза есть своя система компетенций, которая подразумевает, что оценка складывается в том числе из того, насколько студент активен на занятиях, насколько он вносит вклад в общую дискуссию, ясно ли выражает свои мысли (как письменно, так и устно), насколько профессионально его поведение и корректно ли взаимодействие с одногруппниками и преподавателями, насколько своевременно он сдает работы и т.д. При этом такая система оценки применяется не только к студентам преподавателями, но и студентами к преподавателям.
На британских программах в БВШД тоже есть такие формально прописанные критерии (например, способность воспринимать критику), но разница в том, как они оцениваются на деле: сложно представить, чтобы кто-то получил «неуд» за то, что на занятиях хамит. Критерий есть, но по факту в представление о профессиональных компетенциях входят прежде всего практические навыки, а soft skills на деле не особенно оцениваются.
Ольга Герасименко: В моем опыте тоже нет примеров отчислений за хамство, но я точно знаю, что человеку пришлось бы объясняться в таких случаях, и с ним бы отдельно разговаривали. Не могу представить себе ситуацию, в которой человек отстаивает свое право на хамство, когда ему отовсюду — от профессора, куратора, декана — поступает многоуровневая обратная связь о том, что так делать не надо. Люди платят за свое образование довольно большие деньги, и мне сложно представить, чтобы они платили их за то, чтобы находиться в ситуации, когда им отовсюду говорят, что они не правы. Скорее такой человек унесет свои деньги и уйдет из вуза, в котором к нему предъявляют требования, несовместимые с его ценностями.
В целом если брать ситуацию в США, то здесь довольно сложно пронести некорректное поведение вплоть до вуза, поскольку еще с детства и со школы начинают действовать эти правила относительно того, как себя вести. Поэтому собеседование в вуз во многом похоже на собеседование на работу.
Довольно жесткая система.
Ольга Герасименко: Да, и это то, что может не нравиться людям из России. На этом месте часто возникают спекуляции на тему американского «лицемерия», но по факту жесткие правила относительно экологичности общения часто позволяют добраться до тех вопросов, до которых в российской системе дело просто не доходит.
А что делать на практике, если все-таки возникает ситуация, когда человек ведет себя на занятии агрессивно: перебивает, постоянно критикует и ставит под сомнение право людей вокруг него делать то, что они делают? В художественной сфере таких примеров, конечно, немного, но они бывают.
Дима Горелышев: Редко, но такое случается — что люди открыто идут на конфликт. У меня такое возникает нечасто, потому что я сам не иду на конфликт и стараюсь общаться мягко и никогда не перехожу на личности. В академической среде, например, по умолчанию принято обращение к студенту на «ты» или чуть пренебрежительное отношение в духе «подрастешь — поймешь». Такие «отеческие» моменты в преподавании до сих пор часто встречаются. Я всегда по умолчанию обращаюсь к любым студентам на «вы», вне зависимости от того, насколько я их старше.
Но иногда бывает, что человек всё делает наперекор — возможно, из-за того, что сам сильно переживает из-за своей работы. Тогда бывает полезным просто подождать. У меня был однажды такой студент, и со временем он стал, наоборот, очень преданным своей работе и группе человеком, заинтересованным и искренне благодарным. Просто в какой-то момент ему было сложно: что-то сделать, принять; может, были какие-то другие сложности, про которые я не знаю и знать не могу. Поэтому для меня путь только один: быть искренним, давать, если мне есть, что дать, спрашивать, если что-то не так; помогать, если я могу помочь, и не делать ничего, если я не могу ничего сделать. Не пытаться воспитывать человека: я не воспитатель, я преподаватель. Мне кажется, я не должен заниматься наказаниями или особыми условиями для человека.
Я готов принять, что иногда людям просто неинтересно, и тогда мы сводим наше общение к необходимому формальному минимуму. Или я просто жду, пока человек включится: очень часто люди включаются со временем, когда ты просто продолжаешь с ними взаимодействовать, продолжаешь ставить перед ними задачи.
Если же человек вдруг огрызнулся — поворачиваешься и идешь к другому студенту, не показывая своих эмоций: ты в роли — в роли преподавателя. Роль преподавателя — вести группу, давать материал, стимулировать работу, направлять. Если конкретно с этим человеком работа сейчас не направляется, я просто переключаюсь на другого студента. Может быть, я потом к нему вернусь, и он будет уже готов продолжить работу.
Дима Горелышев: Редко, но такое случается — что люди открыто идут на конфликт. У меня такое возникает нечасто, потому что я сам не иду на конфликт и стараюсь общаться мягко и никогда не перехожу на личности. В академической среде, например, по умолчанию принято обращение к студенту на «ты» или чуть пренебрежительное отношение в духе «подрастешь — поймешь». Такие «отеческие» моменты в преподавании до сих пор часто встречаются. Я всегда по умолчанию обращаюсь к любым студентам на «вы», вне зависимости от того, насколько я их старше.
Но иногда бывает, что человек всё делает наперекор — возможно, из-за того, что сам сильно переживает из-за своей работы. Тогда бывает полезным просто подождать. У меня был однажды такой студент, и со временем он стал, наоборот, очень преданным своей работе и группе человеком, заинтересованным и искренне благодарным. Просто в какой-то момент ему было сложно: что-то сделать, принять; может, были какие-то другие сложности, про которые я не знаю и знать не могу. Поэтому для меня путь только один: быть искренним, давать, если мне есть, что дать, спрашивать, если что-то не так; помогать, если я могу помочь, и не делать ничего, если я не могу ничего сделать. Не пытаться воспитывать человека: я не воспитатель, я преподаватель. Мне кажется, я не должен заниматься наказаниями или особыми условиями для человека.
Я готов принять, что иногда людям просто неинтересно, и тогда мы сводим наше общение к необходимому формальному минимуму. Или я просто жду, пока человек включится: очень часто люди включаются со временем, когда ты просто продолжаешь с ними взаимодействовать, продолжаешь ставить перед ними задачи.
Если же человек вдруг огрызнулся — поворачиваешься и идешь к другому студенту, не показывая своих эмоций: ты в роли — в роли преподавателя. Роль преподавателя — вести группу, давать материал, стимулировать работу, направлять. Если конкретно с этим человеком работа сейчас не направляется, я просто переключаюсь на другого студента. Может быть, я потом к нему вернусь, и он будет уже готов продолжить работу.

Учебное пространство в Британской высшей школе дизайна.
Фотографию предоставил Дмитрий Горелышев.
Фотографию предоставил Дмитрий Горелышев.
Звучит практично и реализуемо: очень понятно, что можно сделать в общении со студентами, но что можно сделать преподавателю при этом с собой? Между моментом, когда человек огрызнулся, и тем, когда преподаватель принимает решение «быть в роли» и перейти к следующему студенту, есть момент, когда он тоже что-то чувствует, и эти чувства работу не упрощают. Что с ними делать?
Дима Горелышев: Приведу такой пример. Однажды у меня был просмотр, где студенты показали весьма средние работы, хотя в учебном процессе мы не раз проговаривали, что требуется для завершения. Это были несложные вещи — практические, применимые. Тогда после просмотра я сказал студентам, что расстроен этим, что даю то, что могу дать, не могу и не хочу делать работу за них. То есть, постарался показать, что учеба — это не только моя инициатива и ответственность, но и студентов. Моё дело — помочь и направить. Иногда группа подбирается очень заряженная, причем это не зависит напрямую от навыков, а иногда заряд, напротив, очень низкий, такую группу очень тяжело раскачать. Это расстраивает, но мне помогает то, что у меня много групп. Мне некогда расстраиваться, если что-то меня вдруг сильно выбьет из колеи, я просто хуже буду работать с другими. Мне важно это заметить — то, что я расстроился, и отчего это произошло, но я стараюсь не застревать в этом и переключаюсь на другую работу.
Яна Гнеденко: Я думаю, в таких ситуациях очень важно то, как мы реагируем на агрессию, проявленную к нам. В этом очень важно уметь вывести свои эмоции из этой ситуации, поскольку, если начать их проявлять, то человеку, который не смог сдержать свою реакцию, станет еще сложнее. В этот момент важно поставить рамку и обозначить: «стоп, так нельзя», «сейчас мы останавливаемся и больше так не делаем», а свои эмоции уже выпускаешь где-то вне этой ситуации. Если во взаимодействии есть какая-то степень осознанности, то эти эмоции можно проявить в следующий момент, когда напряжение уже стихло, но не в тот, когда ситуация происходит. Например, если с ребенком случается аффект, в моменте можно сказать: «На меня нельзя кричать, когда я говорю», а потом, когда аффект пройдет, уже проговорить, что именно произошло и почему.
Дима Горелышев: Приведу такой пример. Однажды у меня был просмотр, где студенты показали весьма средние работы, хотя в учебном процессе мы не раз проговаривали, что требуется для завершения. Это были несложные вещи — практические, применимые. Тогда после просмотра я сказал студентам, что расстроен этим, что даю то, что могу дать, не могу и не хочу делать работу за них. То есть, постарался показать, что учеба — это не только моя инициатива и ответственность, но и студентов. Моё дело — помочь и направить. Иногда группа подбирается очень заряженная, причем это не зависит напрямую от навыков, а иногда заряд, напротив, очень низкий, такую группу очень тяжело раскачать. Это расстраивает, но мне помогает то, что у меня много групп. Мне некогда расстраиваться, если что-то меня вдруг сильно выбьет из колеи, я просто хуже буду работать с другими. Мне важно это заметить — то, что я расстроился, и отчего это произошло, но я стараюсь не застревать в этом и переключаюсь на другую работу.
Яна Гнеденко: Я думаю, в таких ситуациях очень важно то, как мы реагируем на агрессию, проявленную к нам. В этом очень важно уметь вывести свои эмоции из этой ситуации, поскольку, если начать их проявлять, то человеку, который не смог сдержать свою реакцию, станет еще сложнее. В этот момент важно поставить рамку и обозначить: «стоп, так нельзя», «сейчас мы останавливаемся и больше так не делаем», а свои эмоции уже выпускаешь где-то вне этой ситуации. Если во взаимодействии есть какая-то степень осознанности, то эти эмоции можно проявить в следующий момент, когда напряжение уже стихло, но не в тот, когда ситуация происходит. Например, если с ребенком случается аффект, в моменте можно сказать: «На меня нельзя кричать, когда я говорю», а потом, когда аффект пройдет, уже проговорить, что именно произошло и почему.
Интересно при этом, что эмоциональные проявления от студентов и от преподавателей расцениваются по-разному. Например, если студент приходит в слезах, без работ и объясняет их отсутствие депрессией, сегодняшняя этика требует от преподавателя проявить сопереживание, предложить проконсультироваться со специалистом и, если это позволяет программа, подать заявку о перенесении сроков сдачи работы. При этом преподаватель, оказавшись в такой же ситуации, не всегда может рассчитывать на понимание студентов и руководства, если обозначит причину таким же образом. Почему так?
Дима Горелышев: У меня не было такой ситуации, но, мне кажется, что, если бы она возникла, то я мог бы сказать об этом. Допустим, я очень устал, и мне нужно две недели отдохнуть. Не могу себе представить ситуацию, что в любом из тех мест, где я работаю, мне бы сказали: «Нет, ты должен». Всегда есть ощущение, что договоримся: переделаем расписание, придумаем замену. Другое дело, что человек сам должен понять, когда нужно отдыхать, чтобы не доводить ситуацию до состояния, когда он ненавидит то, что делает. Мне кажется, основная проблема в том, что преподаватель в потоке задач может сам не заметить, насколько он нуждается в перерыве. Люди моего поколения и старше отдыхать умеют очень плохо. Я это с возрастом стал чуть лучше замечать и стараюсь сейчас эту возможность себе насильно обеспечивать. Например, субботы я стараюсь сохранять выходными. Бывает, что я работаю в этот день дома, но, по крайней мере, не веду курсов.
Яна Гнеденко: Согласна, что тут имеет значение разница поколений. Есть ощущение, что современным студентам просто проще признать и сказать, что у них депрессия, чем преподавателям. Мне кажется, сложно сказать, что преподаватель не может рассчитывать на понимание руководства: это очень сильно зависит от руководства, точно так же, как для студента понимание очень сильно зависит от конкретного преподавателя.
В идеальной вселенной, мне кажется, это происходит примерно так же, как с больничным: депрессия — это ведь тоже болезнь, изменение химии в теле. Ты приходишь и говоришь, что ты болен, и тебе нужно время, чтобы выздороветь или почувствовать себя лучше.
Дима Горелышев: У меня не было такой ситуации, но, мне кажется, что, если бы она возникла, то я мог бы сказать об этом. Допустим, я очень устал, и мне нужно две недели отдохнуть. Не могу себе представить ситуацию, что в любом из тех мест, где я работаю, мне бы сказали: «Нет, ты должен». Всегда есть ощущение, что договоримся: переделаем расписание, придумаем замену. Другое дело, что человек сам должен понять, когда нужно отдыхать, чтобы не доводить ситуацию до состояния, когда он ненавидит то, что делает. Мне кажется, основная проблема в том, что преподаватель в потоке задач может сам не заметить, насколько он нуждается в перерыве. Люди моего поколения и старше отдыхать умеют очень плохо. Я это с возрастом стал чуть лучше замечать и стараюсь сейчас эту возможность себе насильно обеспечивать. Например, субботы я стараюсь сохранять выходными. Бывает, что я работаю в этот день дома, но, по крайней мере, не веду курсов.
Яна Гнеденко: Согласна, что тут имеет значение разница поколений. Есть ощущение, что современным студентам просто проще признать и сказать, что у них депрессия, чем преподавателям. Мне кажется, сложно сказать, что преподаватель не может рассчитывать на понимание руководства: это очень сильно зависит от руководства, точно так же, как для студента понимание очень сильно зависит от конкретного преподавателя.
В идеальной вселенной, мне кажется, это происходит примерно так же, как с больничным: депрессия — это ведь тоже болезнь, изменение химии в теле. Ты приходишь и говоришь, что ты болен, и тебе нужно время, чтобы выздороветь или почувствовать себя лучше.
Еще мне кажется, что в разных ролевых позициях мы можем разное себе позволить. Студент как будто по умолчанию — более защищенная ролевая позиция, на нем лежит меньше ответственности в процессе обучения, и поэтому ему тоже проще сказать о своей депрессии.
Дима Горелышев: Мне кажется, еще важно отделять реальную проблему от просто каприза студента. Обычно это понятно из взаимодействия и общения. Если этого не делать, то очень сильно занижается общая планка и проседает дисциплина. Например, сейчас в Строгановке планка по академическому рисованию упала по сравнению с тем, что было 15 лет назад: то, что сейчас оценивается на «5», тогда было бы оценено на «4» или «4+».
Еще большое значение имеет забота: о месте, о студентах, о себе. Например, я не начинаю работу, пока студенты не сидят удобно, пока заняты своими делами и не готовы слушать. Такие моменты можно пропустить, а можно подождать и начать, когда все будут готовы. Да, иногда это может выглядеть как будто занудный препод «докопался», но это имеет накопительный эффект, рано или поздно группе станет просто некомфортно работать в шуме. При том, что я не сюсюкаюсь с группой, настрой в целом очень положительный и доброжелательный, поэтому и желание конфликта как такового резко снижается. По моему опыту, такая микро-забота — чисто бытовая и не всегда заметная, здорово налаживает климат.
Яна Гнеденко: Добавлю, что в создании этой заботы мне кажется важной честность: если этой ценности заботы нет, то не стоит изображать, что она есть. Понятно, что всегда будут препятствия в создании коммуникации между людьми разных поколений, но в этом смысле честность мне кажется тем, что будет защищать и преподавателя, и студентов: так обе стороны могут проявлять себя, и даже если вы не будете до конца понимать ценности друг друга, вы сможете друг друга с этими ценностями принять.
Еще большое значение имеет забота: о месте, о студентах, о себе. Например, я не начинаю работу, пока студенты не сидят удобно, пока заняты своими делами и не готовы слушать. Такие моменты можно пропустить, а можно подождать и начать, когда все будут готовы. Да, иногда это может выглядеть как будто занудный препод «докопался», но это имеет накопительный эффект, рано или поздно группе станет просто некомфортно работать в шуме. При том, что я не сюсюкаюсь с группой, настрой в целом очень положительный и доброжелательный, поэтому и желание конфликта как такового резко снижается. По моему опыту, такая микро-забота — чисто бытовая и не всегда заметная, здорово налаживает климат.
Яна Гнеденко: Добавлю, что в создании этой заботы мне кажется важной честность: если этой ценности заботы нет, то не стоит изображать, что она есть. Понятно, что всегда будут препятствия в создании коммуникации между людьми разных поколений, но в этом смысле честность мне кажется тем, что будет защищать и преподавателя, и студентов: так обе стороны могут проявлять себя, и даже если вы не будете до конца понимать ценности друг друга, вы сможете друг друга с этими ценностями принять.
Есть ли что-то еще, кроме бюрократии, размеров школы и источников финансирования, что, на ваш взгляд, влияет на то, насколько в той или иной среде уделяют внимание заботе, честности и бережности в преподавании?
Дима Горелышев: Мне кажется, что среда хоть и влияет, в конечном итоге это больше зависит от самого преподавателя: насколько он готов проявлять такие качества. Я знаю преподавателей в государственных вузах (в той же Строгановке), кто это делает, и преподавателей в частных школах, кто этого не делает — просто потому, что человек жёсткий.
Дима Горелышев: Мне кажется, что среда хоть и влияет, в конечном итоге это больше зависит от самого преподавателя: насколько он готов проявлять такие качества. Я знаю преподавателей в государственных вузах (в той же Строгановке), кто это делает, и преподавателей в частных школах, кто этого не делает — просто потому, что человек жёсткий.
Мне кажется, что бережное отношение могло бы быть классным пунктом дополнительного образования для преподавателя, потому что вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, выглядели бы довольно дико для некоторых из моих коллег старшего поколения: им было бы непонятно, что и зачем вообще мы сейчас обсуждаем, потому что это не относится напрямую к делу, которому учат.
Такое, правда, скорее было бы возможно в тесном коллективе, который сам этого хочет — более или менее осознанно. На уровне государственных вузов есть переподготовка, но это очень формальная штука, которая не затрагивает вещи, которые мы сейчас обсуждаем. Лично я стараюсь на эту ситуацию влиять примером. В моей группе на просмотре работы будут всегда висеть на стене, а не валяться на полу; они будут подписаны, а перед просмотром я всегда представлю, что мы делали, а не просто начну ставить оценки; если будут вопросы или сложности в понимании того, что мы делали, я постараюсь объяснить или защитить студента, если его работу не поняли. Такими базовыми вещами я стараюсь показать, что об этом можно в преподавании думать. Но если человек не хочет этого делать, то он и не будет.
В государственных вузах еще мешает установка, что студент «должен»: что студент — это такая отчетная единица. Но если видеть не результат, который нужен для отчетности, а процесс, перенести внимание в момент контакта со студентом, соавторства, если к этому возникает интерес — то все эти вопросы заботы, мягкой коммуникации, создания среды сами собой появляются, потому что ты заинтересован это соавторство поддерживать.
Яна Гнеденко: Очень часто, правда, в государственную среду приходят люди, которые как раз хотят налаживать контакт и привносить во взаимодействие больше внимания, но в итоге выгорают. Это сильно влияет на их возможность заинтересовывать, включаться и предлагать новые идеи.
В государственных вузах еще мешает установка, что студент «должен»: что студент — это такая отчетная единица. Но если видеть не результат, который нужен для отчетности, а процесс, перенести внимание в момент контакта со студентом, соавторства, если к этому возникает интерес — то все эти вопросы заботы, мягкой коммуникации, создания среды сами собой появляются, потому что ты заинтересован это соавторство поддерживать.
Яна Гнеденко: Очень часто, правда, в государственную среду приходят люди, которые как раз хотят налаживать контакт и привносить во взаимодействие больше внимания, но в итоге выгорают. Это сильно влияет на их возможность заинтересовывать, включаться и предлагать новые идеи.

Учебное пространство Простой школы.
Фото Инны Никитиной.
Фото Инны Никитиной.
К слову о выгорании: сегодня очень много разговоров на эту тему, и есть ощущение, что оно используется и к месту, и не к месту. Чем отличается «я устал» от «выгорания»?
Яна Гнеденко: Да, когда термин становится популярным, очень многое начинают под него подводить. Тем не менее, мы не просто так слышим это термин так часто: то, для чего раньше не было слова, теперь такое слово обрело, и тут оказывается, что и у одного человека было выгорание, и у другого, и у третьего. Что сегодня понимают под «эмоциональным выгоранием» несколько отличается в зависимости от конкретной школы в психологии. В общем виде есть соглашение, что это депрессивные синдромы, которые проявляются из-за работы, и при которых вещи, которые раньше были значимы и интересны, перестают таковыми быть. В этом состоянии сильно усложняются человеческие отношения, в них сложнее включаться. На первых стадиях все может начаться с раздражения на коллег, и доходить на последних до очень тяжелых последствий, вплоть до самоубийств — так же, как и в депрессии.
Почему же тогда преподаватели призывают студентов и практикующих иллюстраторов отдыхать, беречь себя, не работать бесплатно, читать договоры, не демпинговать, но при этом так часто нарушают эти правила сами, и более того — так неохотно идут на обсуждение этих ситуаций и не пытаются их поменять? Почему есть такое противоречие между коммерческой иллюстраторской практикой и преподаванием иллюстрации?
Дима Горелышев: В своей практике я стараюсь следить за тем, чтобы то, что я делаю, было небесплатно. Другое дело, что иногда я могу согласиться на отсутствие или скромную оплату, если мне очень интересен проект. Иногда бывает, что появляется возможность прочесть какую-то интересную лекцию, или, как мы сейчас с вами, что-то обсудить — это же вопрос чистого интереса. Кроме того, это редкая возможность поделиться чем-то не только в нашей узкой группе, но и с более широким кругом читателей.
У меня есть возможность выбирать, что мне интересно, поскольку работы у меня много. Другое дело, если такого выбора у человека нет: например, есть единственная работа, и она не очень хорошо оплачивается. Такой человек не имеет возможности диктовать свои условия, поскольку очень держится за свое место. Преподавание в художественной среде вообще — вещь довольно мутная: если ты программист или дизайнер, то ты точно где-нибудь да будешь востребован, в зависимости от твоего уровня, а преподавателей не надо так уж много. Да и конкретно твое преподавание может не подойти, все ведь делают это по-разному. И если в какой-то момент все же удается найти место для преподавания, которое более-менее устраивает, то особого рвения в том, чтобы что-то поменять, может уже не возникать.
Яна Гнеденко: Да, когда термин становится популярным, очень многое начинают под него подводить. Тем не менее, мы не просто так слышим это термин так часто: то, для чего раньше не было слова, теперь такое слово обрело, и тут оказывается, что и у одного человека было выгорание, и у другого, и у третьего. Что сегодня понимают под «эмоциональным выгоранием» несколько отличается в зависимости от конкретной школы в психологии. В общем виде есть соглашение, что это депрессивные синдромы, которые проявляются из-за работы, и при которых вещи, которые раньше были значимы и интересны, перестают таковыми быть. В этом состоянии сильно усложняются человеческие отношения, в них сложнее включаться. На первых стадиях все может начаться с раздражения на коллег, и доходить на последних до очень тяжелых последствий, вплоть до самоубийств — так же, как и в депрессии.
Почему же тогда преподаватели призывают студентов и практикующих иллюстраторов отдыхать, беречь себя, не работать бесплатно, читать договоры, не демпинговать, но при этом так часто нарушают эти правила сами, и более того — так неохотно идут на обсуждение этих ситуаций и не пытаются их поменять? Почему есть такое противоречие между коммерческой иллюстраторской практикой и преподаванием иллюстрации?
Дима Горелышев: В своей практике я стараюсь следить за тем, чтобы то, что я делаю, было небесплатно. Другое дело, что иногда я могу согласиться на отсутствие или скромную оплату, если мне очень интересен проект. Иногда бывает, что появляется возможность прочесть какую-то интересную лекцию, или, как мы сейчас с вами, что-то обсудить — это же вопрос чистого интереса. Кроме того, это редкая возможность поделиться чем-то не только в нашей узкой группе, но и с более широким кругом читателей.
У меня есть возможность выбирать, что мне интересно, поскольку работы у меня много. Другое дело, если такого выбора у человека нет: например, есть единственная работа, и она не очень хорошо оплачивается. Такой человек не имеет возможности диктовать свои условия, поскольку очень держится за свое место. Преподавание в художественной среде вообще — вещь довольно мутная: если ты программист или дизайнер, то ты точно где-нибудь да будешь востребован, в зависимости от твоего уровня, а преподавателей не надо так уж много. Да и конкретно твое преподавание может не подойти, все ведь делают это по-разному. И если в какой-то момент все же удается найти место для преподавания, которое более-менее устраивает, то особого рвения в том, чтобы что-то поменять, может уже не возникать.
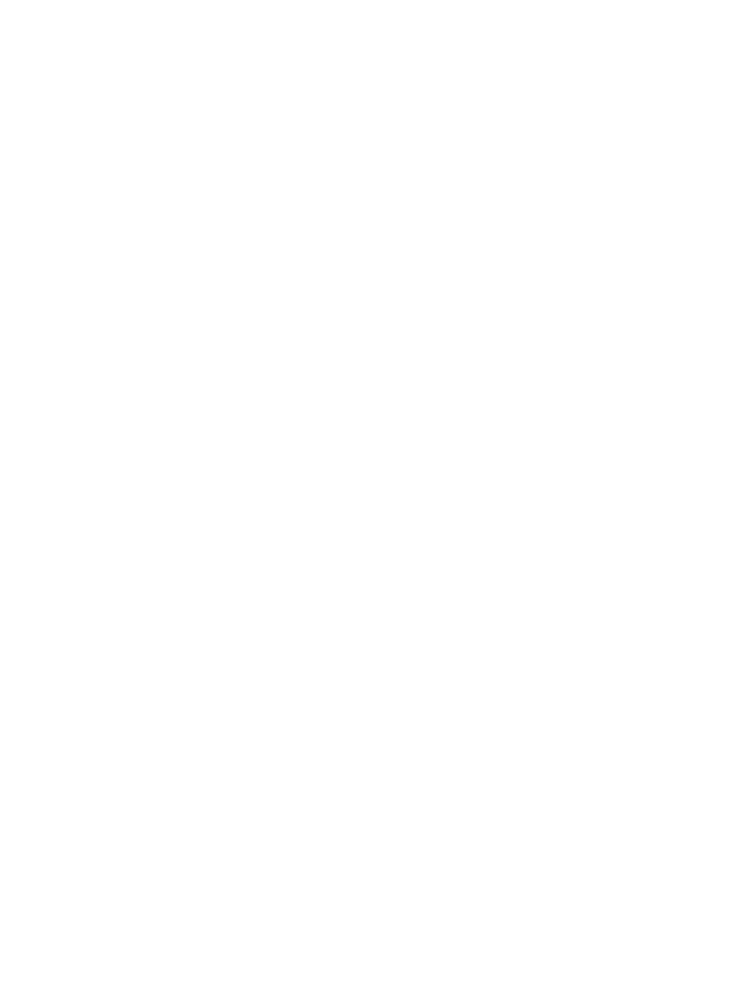
Учебное пространство в Простой школе.
Фото Дарьяны Брезовской.
Фото Дарьяны Брезовской.
Яна Гнеденко: Конечно, важно знать конкретную ситуацию, но в общем случае могу предположить, что дело может быть в том, что людям непросто жить с нарушением чужих ожиданий и говорить «нет». Мы все иногда подписываемся на то, чего не хотим делать, и после этого многим людям тяжело отказывать. У нас у всех есть длительная практика попыток сделаться социально удобными. Очень многие мои клиенты говорят, что пришли затем, чтобы научиться говорить «нет».
Есть и другой момент. Например, когда я работала в совместном проекте с Центром социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов, у многих его сотрудников включалась эдакая «выученная беспомощность» при попытке обращения к директору и администрации в целом. Подозреваю, что этот опыт не вполне переносится на опыт преподавателей в художественных вузах, но тогда мне говорили, что гораздо легче потратить свои деньги на то, чтобы купить детям игрушки, чем добиться чего-то официально. Намного проще было скинуться вместе с другими педагогами, чем обращаться в администрацию, обработка запроса в которой займет год, с сотрудников кучу всего спросят, а игрушки в итоге к детям, скорее всего, так и не попадут.
Кроме того, если человек считает себя профессионалом, то, как в случае с преподавателем, который говорит студентам не работать бесплатно, может быть сложно и стыдно признаться, что сам делаешь так, как учишь не делать.
Мне кажется, что ситуацию «выученной беспомощности» можно менять. У нас был случай, когда преподаватель с точки зрения профессиональной этики психолога говорил совершенно неприемлемые вещи, вроде того, что детей с особенностями нужно «душить в колыбели». Студенты тогда между собой говорили, что это кошмар и ужас, но поначалу ничего не делали. Со временем, когда такие ситуации накапливались, а группа узнала, какие люди в администрации могут повлиять на происходящее, она дважды собиралась и дважды просила преподавателя заменить.
Мне кажется, в таких ситуациях важно прояснить, насколько возможен сам такой поход к администрации, насколько это сейчас будет ценно для человека и скольких это потребует сил. А это потребует сил и выключения из привычного образа жизни. Нам часто проще жить, ничего не меняя. С другой стороны, история показывает, что иногда люди собираются, чтобы пытаться достучаться и что-то поменять даже тогда, когда таких возможностей нет — как, например, это показывает история феминизма. Но здесь важно учитывать, что на изменения нужно много времени: на то, чтобы сформировался запрос и готовность за него бороться.
Есть и другой момент. Например, когда я работала в совместном проекте с Центром социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов, у многих его сотрудников включалась эдакая «выученная беспомощность» при попытке обращения к директору и администрации в целом. Подозреваю, что этот опыт не вполне переносится на опыт преподавателей в художественных вузах, но тогда мне говорили, что гораздо легче потратить свои деньги на то, чтобы купить детям игрушки, чем добиться чего-то официально. Намного проще было скинуться вместе с другими педагогами, чем обращаться в администрацию, обработка запроса в которой займет год, с сотрудников кучу всего спросят, а игрушки в итоге к детям, скорее всего, так и не попадут.
Кроме того, если человек считает себя профессионалом, то, как в случае с преподавателем, который говорит студентам не работать бесплатно, может быть сложно и стыдно признаться, что сам делаешь так, как учишь не делать.
Мне кажется, что ситуацию «выученной беспомощности» можно менять. У нас был случай, когда преподаватель с точки зрения профессиональной этики психолога говорил совершенно неприемлемые вещи, вроде того, что детей с особенностями нужно «душить в колыбели». Студенты тогда между собой говорили, что это кошмар и ужас, но поначалу ничего не делали. Со временем, когда такие ситуации накапливались, а группа узнала, какие люди в администрации могут повлиять на происходящее, она дважды собиралась и дважды просила преподавателя заменить.
Мне кажется, в таких ситуациях важно прояснить, насколько возможен сам такой поход к администрации, насколько это сейчас будет ценно для человека и скольких это потребует сил. А это потребует сил и выключения из привычного образа жизни. Нам часто проще жить, ничего не меняя. С другой стороны, история показывает, что иногда люди собираются, чтобы пытаться достучаться и что-то поменять даже тогда, когда таких возможностей нет — как, например, это показывает история феминизма. Но здесь важно учитывать, что на изменения нужно много времени: на то, чтобы сформировался запрос и готовность за него бороться.
Важно понимать, что ты — часть сообщества. Не жить одному со стыдом за то, что ты работаешь бесплатно, а понимать, что это общая ситуация, и оценивать, насколько сильно она тебя не устраивает, насколько ты готов борьбу в этом отношении делать частью своей жизни.
При этом люди часто из этой борьбы самоустраняются, не видя себя частью сообщества, и не видя, как индивидуальные решения тянут за собой общие последствия. Более того, часто попытки вовлечь в процесс изменения ситуации, с которой никто не согласен, воспринимаются с агрессией, — как посягательство на личную свободу. Что должно произойти, чтобы это поменялось?
Дима Горелышев: Должно произойти такое, чтобы терпеть стало невыносимо. Ругать и изливать недовольство вдвоем с коллегой, конечно, очень классно и очень безопасно. Но когда собирается группа людей — консилиум, педсовет, что угодно — все меняется. Любое мнение человека имеет шанс не быть принятым, и люди опасаются «выглядеть идиотами»: вскочить из-за стола, дернуть хлопушку и обнаружить, что никто больше этого не сделал. Поэтому, чтобы что-то поменялось, ситуация должна быть такой, что ты либо уходишь из этого места, поскольку «так больше невозможно», либо меняешь это место. Например, был случай, когда, если не ошибаюсь, в Академии им. Штиглица студенты сместили ректора, хотя казалось бы: где студенты, а где ректор. Когда есть действительно серьезная проблема, люди готовы объединяться.
Яна Гнеденко: Еще добавлю, что активным действиям способствует резкое изменение условий: когда ситуация меняется к худшему плавно, нам проще её терпеть и подстраиваться. Если изменение происходит резко, то проще собраться вместе и что-то поменять.
Дима, а в твоей практике были ситуации, что по просьбе студентов меняли преподавателя? Если такое было в разных школах, то чем отличался процесс?
Дима Горелышев: В Британке я такого не застал. Там есть интересная система рейтинга, когда в конце полугодия у студентов собирают фидбек, чтобы узнать, все ли в порядке и есть ли что-то, что они хотели бы поменять. Мне кажется, это классная штука, и интересно, что когда я рассказывал о ней коллегам в Строгановке, то часто сталкивался с непониманием: «А зачем?.. Мы что, еще и спрашивать их должны?» На мой же взгляд, это абсолютно здоровая ситуация, когда ты хоть чуть-чуть смотришь на себя со стороны. И это не значит, что после всякой обратной связи нужно метнуться и срочно перестроиться.
В Строгановке бывало такое, что преподавателя меняли, но таких случаев было немного. Обычно это было связано с личным конфликтом с преподавателем: когда студенты начинают открыто консультироваться с другим преподавателем и саботировать работу на занятиях, — то есть когда начинаются какие-то уже разрушительные процессы. Тогда либо сами студенты обращаются к руководству кафедры, либо руководитель кафедры сам вовремя преподавателя заменит или отстранит. Группы, в которых такие случаи были, конечно, очень жаль: время, проведенное с таким преподавателем, они могли бы использовать более эффективно.
Яна Гнеденко: Что касается пользы, то это понятно с профессиональной точки зрения. Но с общечеловеческой — это очень ценный опыт, и, возможно, опыт озвучивания проблемы и то, что твой голос в итоге был услышан, и преподавателя заменили, в итоге будет стоить какой-то пропущенной части академической программы.
А что могли бы делать студенты, чтобы выразить проблему, возникшую с каким-либо преподавателем, корректным образом?
Ольга Герасименко: Направлять обратную связь тому преподавателю, с которым эта проблема возникла. Если он не отреагировал, то тогда уже, возможно, обратиться к руководству. Если от преподавателя поступали извинения — дать второй шанс и посмотреть, как ситуация поменяется. Словом, давать право на ошибку.
Дима Горелышев: Должно произойти такое, чтобы терпеть стало невыносимо. Ругать и изливать недовольство вдвоем с коллегой, конечно, очень классно и очень безопасно. Но когда собирается группа людей — консилиум, педсовет, что угодно — все меняется. Любое мнение человека имеет шанс не быть принятым, и люди опасаются «выглядеть идиотами»: вскочить из-за стола, дернуть хлопушку и обнаружить, что никто больше этого не сделал. Поэтому, чтобы что-то поменялось, ситуация должна быть такой, что ты либо уходишь из этого места, поскольку «так больше невозможно», либо меняешь это место. Например, был случай, когда, если не ошибаюсь, в Академии им. Штиглица студенты сместили ректора, хотя казалось бы: где студенты, а где ректор. Когда есть действительно серьезная проблема, люди готовы объединяться.
Яна Гнеденко: Еще добавлю, что активным действиям способствует резкое изменение условий: когда ситуация меняется к худшему плавно, нам проще её терпеть и подстраиваться. Если изменение происходит резко, то проще собраться вместе и что-то поменять.
Дима, а в твоей практике были ситуации, что по просьбе студентов меняли преподавателя? Если такое было в разных школах, то чем отличался процесс?
Дима Горелышев: В Британке я такого не застал. Там есть интересная система рейтинга, когда в конце полугодия у студентов собирают фидбек, чтобы узнать, все ли в порядке и есть ли что-то, что они хотели бы поменять. Мне кажется, это классная штука, и интересно, что когда я рассказывал о ней коллегам в Строгановке, то часто сталкивался с непониманием: «А зачем?.. Мы что, еще и спрашивать их должны?» На мой же взгляд, это абсолютно здоровая ситуация, когда ты хоть чуть-чуть смотришь на себя со стороны. И это не значит, что после всякой обратной связи нужно метнуться и срочно перестроиться.
В Строгановке бывало такое, что преподавателя меняли, но таких случаев было немного. Обычно это было связано с личным конфликтом с преподавателем: когда студенты начинают открыто консультироваться с другим преподавателем и саботировать работу на занятиях, — то есть когда начинаются какие-то уже разрушительные процессы. Тогда либо сами студенты обращаются к руководству кафедры, либо руководитель кафедры сам вовремя преподавателя заменит или отстранит. Группы, в которых такие случаи были, конечно, очень жаль: время, проведенное с таким преподавателем, они могли бы использовать более эффективно.
Яна Гнеденко: Что касается пользы, то это понятно с профессиональной точки зрения. Но с общечеловеческой — это очень ценный опыт, и, возможно, опыт озвучивания проблемы и то, что твой голос в итоге был услышан, и преподавателя заменили, в итоге будет стоить какой-то пропущенной части академической программы.
А что могли бы делать студенты, чтобы выразить проблему, возникшую с каким-либо преподавателем, корректным образом?
Ольга Герасименко: Направлять обратную связь тому преподавателю, с которым эта проблема возникла. Если он не отреагировал, то тогда уже, возможно, обратиться к руководству. Если от преподавателя поступали извинения — дать второй шанс и посмотреть, как ситуация поменяется. Словом, давать право на ошибку.

Учебное пространство в Простой школе
Фото: Дмитрий Горелышев.
Фото: Дмитрий Горелышев.
А как вы думаете, в какой момент и почему среда поменялась так, что мы вообще стали задумываться о таких вещах, как забота и бережность в преподавании? Что и когда случилось, что от позиции «мы еще и мнения их теперь спрашивать будем?» мы перешли к идее, что неплохо бы в людях видеть людей и заботиться о них?
Дима Горелышев: Я думаю, это не в малой степени запрос от самих студентов. Студенты сейчас стали более чуткие, более нежные. Иногда это можно назвать «инфантильностью», а иногда — «чуткостью». Раньше студент был, как камень, выпущенный из пращи: его запустили, и он полетел: школа, училище, институт и т.д. Сейчас все чуть мягче, все не настолько обязательно, больше проявлений свободы и выбора, и разнообразие этого выбора меньше ощущается как какая-то экзотика. Фриланс, который, появившись, для старшего поколения был экзотикой, сейчас — обычное дело.
В целом мне кажется, что это какой-то самонастраивающийся процесс. Я никогда не занимался такими изменениями искусственно: мол, сейчас повестка такая, значит, мне надо делать так-то. То, что я делаю в плане заботы и мягкости, я ведь еще и для себя делаю. Другой рабочий процесс мне был бы менее интересен, и он бы меня сильнее утомлял. Я не был бы готов поменять свою этическую систему ценностей только потому, что кто-то нынче начал продвигать какие-то еще ценности. «Кружок скорого рисунка», который появился в начале 2000-х, как раз про внимание, заботу и мягкость и был, хотя на тот момент никакого этого современного этического дискурса еще и не было — это просто были качества собравшихся вместе людей.
Яна Гнеденко: Если думать про то, когда этот переход произошел, то тут, мне кажется, Россия — очень интересный пример, на котором его можно видеть очень отчетливо. Если в европейских странах он постепенно готовился еще с начала ХХ века, то нам картинка того, как мы могли развиваться, открылась резко после падения «железного занавеса». Те ценности, которые планомерно развивались там, частично перешли к нам, причем за довольно короткий срок. Поэтому есть такая явная поколенческая разница в отношении к этим понятиям, хотя эти изменения скорее видны в исторической перспективе, нежели в индивидуальном опыте, где они могут ощущаться как более плавные.
Дима Горелышев: Я думаю, это не в малой степени запрос от самих студентов. Студенты сейчас стали более чуткие, более нежные. Иногда это можно назвать «инфантильностью», а иногда — «чуткостью». Раньше студент был, как камень, выпущенный из пращи: его запустили, и он полетел: школа, училище, институт и т.д. Сейчас все чуть мягче, все не настолько обязательно, больше проявлений свободы и выбора, и разнообразие этого выбора меньше ощущается как какая-то экзотика. Фриланс, который, появившись, для старшего поколения был экзотикой, сейчас — обычное дело.
В целом мне кажется, что это какой-то самонастраивающийся процесс. Я никогда не занимался такими изменениями искусственно: мол, сейчас повестка такая, значит, мне надо делать так-то. То, что я делаю в плане заботы и мягкости, я ведь еще и для себя делаю. Другой рабочий процесс мне был бы менее интересен, и он бы меня сильнее утомлял. Я не был бы готов поменять свою этическую систему ценностей только потому, что кто-то нынче начал продвигать какие-то еще ценности. «Кружок скорого рисунка», который появился в начале 2000-х, как раз про внимание, заботу и мягкость и был, хотя на тот момент никакого этого современного этического дискурса еще и не было — это просто были качества собравшихся вместе людей.
Яна Гнеденко: Если думать про то, когда этот переход произошел, то тут, мне кажется, Россия — очень интересный пример, на котором его можно видеть очень отчетливо. Если в европейских странах он постепенно готовился еще с начала ХХ века, то нам картинка того, как мы могли развиваться, открылась резко после падения «железного занавеса». Те ценности, которые планомерно развивались там, частично перешли к нам, причем за довольно короткий срок. Поэтому есть такая явная поколенческая разница в отношении к этим понятиям, хотя эти изменения скорее видны в исторической перспективе, нежели в индивидуальном опыте, где они могут ощущаться как более плавные.
К слову о разнице с другими странами. То, о чем мы говорили, заставляет думать, что специфика образования в России отражает наши более глобальные представления о том, что такое «свобода» и «благо». В России всем, например, знакома система собеседований на работу, и идея того, что HR тебя может не принять из-за личностных качеств, не вызывает удивления. Но представить такое в образовании сложно, поскольку есть наследуемое из советской системы представление о том, что образование — это благо, которое должно быть общедоступно.
Ольга Герасименко: Да, здесь только хочется добавить, что в российской системе, несмотря на то, что формализованных правил поведения нет, они все равно всегда существуют в негласном виде, и студентам все равно нужно под них подстраиваться.
Ольга Герасименко: Да, здесь только хочется добавить, что в российской системе, несмотря на то, что формализованных правил поведения нет, они все равно всегда существуют в негласном виде, и студентам все равно нужно под них подстраиваться.
Что российские вузы, особенно, молодые, тут могли бы сделать — так это формализовать ту культуру, которая все равно так или иначе проявляется, и открыто проговаривать ценности и ожидания от студентов. Да, отсутствует глобальная среда, которая была бы готова такую систему поддержать, но на локальном уровне это можно реализовать.
Все равно прием бы осуществлялся в соответствии со знаниями, но помимо этого можно с первых дней целенаправленно проводить адаптационные тренинги, которые бы разъясняли людям, как именно здесь принято общаться, спорить и не соглашаться. Есть такое понятие — agree to disagree («соглашаться не соглашаться»), которое предполагает, что все договариваются о том, что не соглашаться можно, но проявлять это нужно так, чтобы это не было оскорбительно. И это понятие опирается на ценность уважения, которая тоже проговаривается и прописывается.
Такие изменения сложно представить в системе, которая опирается на идею, что образование — это не ограниченный коммерческий продукт, а бесплатное «счастье для всех, даром». Образование в России как будто пока на идеологическом уровне не сформировалось как коммерческий продукт, поскольку нет зрелой рыночной системы, которая бы такое его восприятие — и, соответственно, этику вокруг него — укрепляло.
Ольга Герасименко: С одной стороны, да, но с другой, история знает случаи, когда формированию рынка предшествовала идеология, под которую рынок подстраивался. Эта идеология исходила как раз от представителей академической (или религиозной) среды, то есть тех институций, которые могли идеи нести в массы. Поэтому есть еще и вариант индивидуального подвижничества и демонстрации определенной этики — как на личном уровне, так и на уровне локальных сообществ, которые могут, в том числе, выносить на обсуждение какие-то темы — как сейчас и происходит в этой дискуссии. Я верю, что такая работа может приносить плоды. Это требует времени, отваги и терпения, но это возможно.
Такие изменения сложно представить в системе, которая опирается на идею, что образование — это не ограниченный коммерческий продукт, а бесплатное «счастье для всех, даром». Образование в России как будто пока на идеологическом уровне не сформировалось как коммерческий продукт, поскольку нет зрелой рыночной системы, которая бы такое его восприятие — и, соответственно, этику вокруг него — укрепляло.
Ольга Герасименко: С одной стороны, да, но с другой, история знает случаи, когда формированию рынка предшествовала идеология, под которую рынок подстраивался. Эта идеология исходила как раз от представителей академической (или религиозной) среды, то есть тех институций, которые могли идеи нести в массы. Поэтому есть еще и вариант индивидуального подвижничества и демонстрации определенной этики — как на личном уровне, так и на уровне локальных сообществ, которые могут, в том числе, выносить на обсуждение какие-то темы — как сейчас и происходит в этой дискуссии. Я верю, что такая работа может приносить плоды. Это требует времени, отваги и терпения, но это возможно.